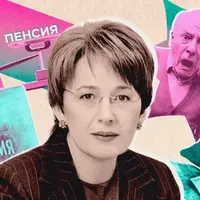Лето в разгаре — благословенная пора прогулок, экскурсий, походов. Александр Пушкин любил гулять много и подолгу. Скажем, для поэта не составляло труда пройти 30 верст от Петербурга до Царского Села. Любители скандинавской ходьбы курят в сторонке.
Весна 1836 года выдалась сухой и теплой. Пушкин часами гулял в одиночестве. В двадцатых числах апреля он побывал на могиле Дельвига на Волковском кладбище, оттуда пошел в Царское Село. «Литераторские мостки» этого кладбища и поныне — популярное место у любителей отечественной истории и культуры.
— Весной тут было неприютно, могилы затапливало разливавшейся Черной речкой — так первоначально называлась река Волковка. Здесь без плана и порядка хоронили людей небогатых. Дорожки между полузатопленными могилами приходилось выстилать досками. Кстати, название «мостки» появилось именно из-за этой необходимости. Слава у Волковского кладбища была дурная, хотя свое печальное обаяние нередко бывает и у неприветливых уголков земли, — рассказывает сотрудник Всероссийского музея Пушкина Варвара ФОМИЧЕВА.
— В бумагах поэта был найден набросок стихотворения, которое так и не было написано: «Я посетил твою могилу — но там тесно; les morts m’en distaraient (мертвые отвлекают меня). Теперь иду на поклонение в Царское Село и в Баболово». Для нас, избалованных, подобная прогулка представляется утомительным походом в 25 километров. А для Александра Сергеевича это был обычный променад. Историк и литературовед Петр Бартенев, известный своими записями рассказов современников поэта, писал: «Пушкин много и подолгу любил ходить... пройти около 30 верст от Петербурга до Царского Села ему было нипочем». Чем были для поэта эти прогулки — способом поддерживать здоровье и вдохновение?
К деревне Волково выстроенный рядом Санкт-Петербург понес своих покойников. Местное кладбище стало множиться, расширяться, окружать деревню. Прилегающая к погосту пустошь получила имя Волково поле. Именно сюда, на унылый пустырь, потянулись и дуэлянты. И тут самое время вспомнить бестолковую дуэль, которую затеяли на Волковом поле Кюхельбекер с Пушкиным в 1818 году.
Событие неоднократно описывалось современниками. Рассказывал об этом эпизоде и Н.И. Греч в своих «Записках» с упоминанием множества комичных деталей. Однако дочь Кюхельбекера Юстина Вильгельмовна настаивала в своих записках, что эта дуэль «если существовала, то только в воображении г-на Греча или, вернее всего, придумана просто им в виде остроумного анекдота».
Бартенев в своей книге «Пушкин в южной России» так рассказывает об этой истории: «Кюхельбекер, как и многие тогдашние молодые стихотворцы, хаживал к Жуковскому и отчасти надоедал ему своими стихами. Однажды Жуковский куда-то был зван на вечер и не явился. Когда его после спросили, отчего он не был, Жуковский отвечал: „Я еще накануне расстроил себе желудок, к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома“. Это рассмешило Пушкина, и он стал преследовать неотвязчивого поэта стихами:
За ужином объелся я,
Да Яков зanep дверь оплошно -
Так было мне, мои друзья,
И Кюхельбекерно, и тошно!
Выражение сделалось поговоркой во всем кружке. Кюхельбекер взбесился и требовал дуэли. Никак нельзя было его уговорить. Дело было зимою. Кюхельбекер стрелял первый и дал промах. Пушкин кинул пистолет и хотел обнять своего товарища, но тот неистово кричал: „Стреляй, стреляй!“ Пушкин насилу его убедил, что невозможно стрелять, потому что снег набился в ствол. Поединок был отложен, и потом они помирились».
Забавный анекдот? А теперь попробуем представить, как изменились бы дух и характер русской словесности, каким другим был бы наш общий язык, если бы взбешенный Кюхельбекер промаха не дал. Спасибо дрогнувшей руке Вильгельма и снегу в стволе дуэльного пистолета.
P.S. Могилы Дельвига на Волковском кладбище давно нет: в 1934 году его прах был перенесен в некрополь Мастеров искусств Тихвинского кладбища Александро-Невской лавры.