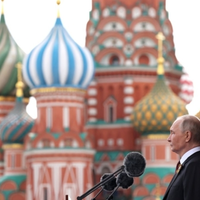Концерты классической музыки в многотысячных залах и в дачных садоводствах, выступления в студенческих клубах и Домах творчества, международные фестивали, собирающие аншлаги в России и за рубежом... И все это задумал, организовал и воплощает в жизнь вот уже три с лишним десятилетия маэстро Александр Яковлевич Канторов, отметивший недавно свой 78-й день рождения. Создатель и руководитель государственного симфонического оркестра «Классика», он настоящий музыкальный просветитель. Благодаря общедоступным концертам, которые он сам же и ведет, количество поклонников «высокой музыки» растет, в том числе и среди молодежи.
— Скептики утверждают, что классическая музыка свое отжила, а ваших музыкантов встречают полные залы...
— Да, на выступлениях нашего оркестра пустых кресел не наблюдается, чему я бесконечно рад. А идею общедоступных концертов подсказал, возможно, сам того не ведая, писатель Даниил Гранин, большой поклонник симфонической музыки. Однажды, побывав в очередной раз на нашем концерте, он сказал: «Это та радость, которой нам так часто не хватает в жизни». Вот мы и стараемся этой радостью делиться как можно чаще. Сегодня из-за дорогих билетов далеко не все имеют возможность посещать оперные театры, ту же филармонию. А сколько тех, кто не знает великих творений Бетховена, Моцарта, Россини, Грига, Дворжака, Шопена, считает их музыку «сложной». Разве справедливо? Это все равно что лишить человека возможности любить — обречь его на блеклую, пресную жизнь. А на наши концерты можно прий-ти всей семьей. Радуюсь, когда вижу в зале родителей с детьми, с бабушками, дедушками. При нынешних ценах на билеты подобное практически невозможно.
— Во время концерта вы доверительно общаетесь с публикой, что не принято там, где звучат симфонии. И даже шутите на музыкальные темы. Интересно, над чем смеются музыканты?
— Тут есть специфика. У французского композитора Эрика Сати, например, есть произведение с говорящим названием «Бюрократическая сонатина». Сен-Санс написал сюиту «Карнавал животных» с номером «Умирающий лебедь», ставшим балетным благодаря Михаилу Фокину и прославивший балерину Анну Павлову. Хотя у композитора лебедь и не думал умирать, он самодовольно демонстрировал свою красоту слушателям — в этом была ирония автора. А в опере Римского-Корсакова по сказке Пушкина «Золотой петушок» царь Додон выдавливает из себя любовное признание на мотив песенки «Чижик-Пыжик». Разве не забавно? И, конечно, смело для своего времени.
Я со сцены в коротких паузах между номерами общаюсь со слушателями. В антракте выхожу в фойе. Приходилось брать в руки микрофон, чтобы рассказать «новобранцам классики» об исполняемых произведениях. Хочется, чтобы они понимали, о чем музыка, в чем ее смысл.
— Но нынешнее молодое поколение, выросшее на разного рода шоу, преимущественно развлекательных, едва ли в состоянии понять классику.
— Ерунда. Это неправда, что творения великих композиторов слишком сложные для восприятия. Посмотрите, какие радостные лица у тех же школьников в зале, как живо они воспринимают музыку! Ребята постарше, студенты, те действительно избалованы шоу. Сидеть спокойно на музыкальных вечерах не умеют, начинают елозить в креслах, им привычнее что-нибудь с подтанцовками. Но через какое-то время и до них доходит музыка, непонимание исчезает. Скучающих не остается, лица светлеют, настроение на подъеме. Как-то услышал от слушательницы, покидающей зал: «Первый раз не чувствовала себя дурой на симфонической музыке». Такое признание дорогого стоит.
— Ваш оркестр создавался в родном Петербурге, где вы окончили консерваторию по классу скрипки, играли в филармонии в оркестре Юрия Темирканова, гастролировали по всему миру. А потом вдруг такой вираж в карьере. Почему?
— В нашем городе всегда было много молодых талантливых музыкантов и мало оркестров. А я к концу 80-х получил второй диплом — дирижерский. Хотелось самостоятельности. Узнал, что в Кургане есть все условия для работы, но нет музыкантов. Съездил туда. Договорился с местной филармонией, что буду приезжать к ним с камерным коллективом в 20 человек, выполнять за 10 дней норму по концертам — и назад, домой. Так и работали. Пока я, мечтая о большом оркестре, не познакомился с директором одного крупного питерского предприятия. Шел как-то по Невскому, озабоченный идей выпуска первой нашей пластинки. Смотрю — вывеска солидная. Зашел на удачу. Директор встретил приветливо. Рассказал ему о пластинке, заодно и о мечте создать большой коллектив, чтобы исполнять классическую музыку. На счастье, директор оказался большим любителем музыки. Поддерживал нас до самой перестройки...
— Работали с Темиркановым и ушли в свободное плавание?
— Как у нас шутят: бросил музыку и стал дирижером... Еще когда я учился на скрипача, был концертмейстером студенческого оркестра. И однажды случай (опять случай!) заставил меня встать за пульт. До сих пор помню это ощущение: будто звучание оркестра приподнимает тебя над пультом. И оно, это чувство, осталось со мной на всю жизнь.
— Дирижируя, вы что-то меняете в партитуре, корректируете автора, как это нередко случается в современном театральном мире?
— В допустимой степени. Иногда дирижер, следуя интуиции, угадывает точнее самого композитора, что он хотел высказать в конкретном месте. Если же вы имеете в виду «корректуру», подобную той, что сейчас модна на театре — ставить спектакль «по мотивам пьесы Чехова», где от самого Антона Павловича мало что остается, то я этого не понимаю и не принимаю. У классической музыки нет и не должно быть «по мотивам».
— На ваш взгляд, в споре поклонников музыки классической и музыки легкой у кого сегодня больше шансов?
— А что значит «легкая» музыка? У Чайковского в одной части Четвертой симфонии звучит балетная мелодия, на что Петру Ильичу указал его ученик Танеев. И услышал в ответ: «Я этого не понимаю, для меня музыка либо хорошая, либо нет». Из всех искусств классика наиболее чувственна. Потому что идет не через мозг, а сразу в душу. Это проверено веками и поколениями слушателей. А иначе и Моцарта, Бетховена, Чайковского давно бы уже позабыли.