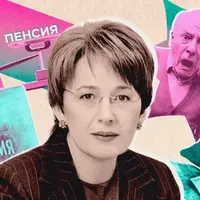Один из множества печальных счетов, которые музыкальная жизнь могла бы предъявить пандемии – прерванный на самом взлете Третий фестиваль Мариинского театра «Зарядье» в одноименном московском концертном зале, по традиции назначенный на конец октября. Из обещанных артистами и предвкушаемых публикой четырех оперных вечеров, включая «Ночь перед Рождеством» и «Обручение в монастыре», а также трех симфонических концертов успели прозвучать, прежде чем наступил локдаун, лишь «Летучая мышь», «Трубадур» и одна концертная программа. Доставив, таким образом, энтузиастам не только радость встречи с любимой музыкой и труппой, но и досаду от мысли об отнятой львиной доле музыкальных удовольствий.
Дела командировочные сложились так, что упорхнула от меня и «Летучая мышь» – впрочем, то, с каким блеском и куражом исполняют ее мариинцы, сотни московских меломанов (включая автора этой заметки) уже наблюдали в зале имени Чайковского под Новый 2021 год. А вот свидетелем двух остальных фестивальных событий повезло стать.
Первый фортепианный концерт Брамса с Даниилом Трифоновым и Восьмая симфония Брукнера… Программа столь естественная – два капитальных послания из австро-немецкого музыкального мира второй половины XIX века, – сколь и парадоксальная, поскольку оба сочинителя были или по крайней мере долго воспринимались полярно противостоящими. Впрочем, если выбирать из творчества классициста Брамса произведение, ближе всего подходящее по духу к вырывающейся из жестких классических рамок стихии брукнеровских симфоний-экзальтаций, то это, конечно, Первый концерт с его тоже грандиозными (почти час звучания) масштабами и вулканически мощной эмоциональностью.
Но насколько близка эта планетарная тектоника пламенеющих, как лава, трелей и могучих аккордовых пластов, идущая, несомненно, от органных фантазий Баха и Девятой симфонии Бетховена, утонченному романтику-интеллектуалу (во всяком случае до сих пор я его знал именно таким) Трифонову? Оказалось – в самый раз. Не знаю, как сейчас играет Даниил, допустим, мазурки Шопена – возможно, в своей привычной манере, словно любуясь каждой мельчайшей деталью через микроскоп. Но в концерте Брамса это был взгляд стратега, решительно оторвавшийся от микромира и охватывающий горные вершины кульминаций, перемежаемые долинами лирических сосредоточений. Причем для этого укрупненного слышания-видения совершенно не понадобился форсаж: пианист достигал насыщенности звука точно так же в тишайших моментах медленной части, как в громоподобной первой и прометеевски-огненной третьей. А управляемый худруком Мариинки Валерием Гергиевым оркестр, будто готическое здание, «перетекающее» в украшающие его скульптуры, составлял с рояльной партией монолитное единство.
Отголоском этой архитектурно-скульптурной подачи прозвучал бис – фортепианное переложение знаменитой арии Bist du bei mir, известной по одной из Нотных тетрадей Анны-Магдалены Бах, но на самом деле принадлежащей баховскому современнику Готфриду Генриху Штёльцелю. Хотя вот тут, может быть, Даниилу стоило бы чуть разгрузить звук и не перетяжелять эту чудесную мелодию, для меня ассоциирующуюся скорее с самыми тонкими лирическими признаниями Моцарта и Шуберта, чем с бетховенски-вагнеровскими космическими обобщениями.
Совершенно того же, что удалось ансамблю с солистом в первом отделении, добился уже один оркестр во втором – симфонии Брукнера. Хотя, казалось бы, какой соблазн – вжать слушателя в кресло мощью тройного состава дерева и труб, плюс целых восемь валторн, половина из которых, к тому же, периодически заменяется на еще более звонкие и гулкие вагнеровские тубы. Да добавьте воинство из шести десятков струнных… Но нет, децибелы в Брукнере, как и в Брамсе – не главное. Куда важнее внутренняя интенсивность интонации, размах этих волн мысли и чувства, грандиозных, как Альпийские горы, которые так вдохновляли композитора, видевшего в них отражение величественного Божьего замысла. Брукнеровские симфонические воспарения – это песня души, а она не может быть оглушительной, пронзая другим: ослепительным светом струнных линий, великанским ростом духовых хоралов, вызывающих в воображении образ атлантов, держащих небо.
Кстати, снова о скульптурно-архитектурной, на этот раз особенно родной нам ассоциации. Всем ведь памятны те петербургские атланты с портика Нового Эрмитажа, из песни Городницкого… И – для меня бесспорно – из Седьмой симфонии Шостаковича, чье «органное» адажио всегда казалось мне отражением той «атлантовой» непреклонности. И вдруг, именно в этот вечер в «Зарядье», мне стало ясно – сколько же в музыке нашего классика от тех брукнеровских пронзительных горизонталей и сверкающих вертикалей. А ведь ничего на самом деле удивительного, если вспомнить, какое влияние на Дмитрия Дмитриевича оказала музыка Малера, а тот прямо называл Брукнера своим учителем. Но до партитур Шостаковича ассоциации, вызываемые Брукнером, обычно не добивают – а напрасно. В Восьмой, самой раскидистой и возвышенной из всех, сравнимой по масштабам с шостаковичевскими Седьмой и Восьмой, они разительны. Музыка и того и другого композитора – символ победы духа над тем, что косно, тянет вниз во тьму и подавляет свободу. И, возможно, не случайно, что помогли мне это понять именно петербургские музыканты…
Но пора переходить от чистого симфонизма – к опере, от тектонического масштаба – к человеческим страстям, от рафинированной философичности – к хиту из хитов: «Трубадуру». Головокружительный скачок – но разве это препятствие для универсальных в своих умениях мариинцев и их лидера? Да и Верди – разве не великий симфонист, если понимать под этим определением мастерство развития многотемного целого, да и впрямую построения партитуры? Ну, и только великому оркестру по плечу, например, те идеальные унисоны, которыми, как вышколенное войско, берет нас в плен с первых тактов мариинский коллектив.
Что до певцов, Гергиев привез в Москву практически состав мечты. Могуч, звонок, статен бас Станислава Трофимова, захватывающий тебя с первой же арии бывалого воина Феррандо. А когда запела свою выходную арию Леонора, я еще не глядя в программку и не всмотревшись в сцену понял – так насыщенно, объемно, плотно может звучать только голос Татьяны Сержан. Новое явление – и новая волна восхищения: богатое тысячью нюансов меццо-сопрано Екатерины Семенчук в излучающей темную страсть партии Азучены. А более подходящего инструмента для роли мятущегося между любовной страстью и ненавистью к сопернику Ди Луны, чем баритон Ариунбаатара Ганбаатара, мне трудно себе представить. Если к пению большинства названных звезд, как и к работе Ивана Гынгазова (Манрико) я все же могу предъявить некоторые претензии, особенно к их крайним верхним нотам, а в случае с Сержан и к известной тяжеловесности вокала, сбивающей темпы и лишающей фиоритуры полетности, то исполнение замечательного монгольско-российского певца представляется близким к идеалу. Равно как и работа мариинского хора, без которого все эти лихие сцены ковки мечей и рейдерских ночных наскоков были бы невозможны.
Что до постановки – она, основанная на нехитрых костюмах и статичных слайдах-декорациях, не мешает восприятию музыки, хотя Мариинский знавал и гораздо более яркие «походные» варианты своих спектаклей (например, «Войны и мира» или «Тристана и Изольды»). Впрочем, по этому поводу вряд ли стоит брюзжать – спасибо, что в пору, когда всем нелегко, смогли и этот вариант собрать.
Самое же интригующее – сможет ли в обозримом будущем Мариинский театр исполнить в Москве всю обещанную программу, или бОльшая часть фестиваля отменилась «без возможности восстановления»? Зная Гергиева на протяжении сорока лет, возьму на себя смелость предположить, что неугомонный Валерий Абисалович вряд ли не смирится со вторым вариантом.