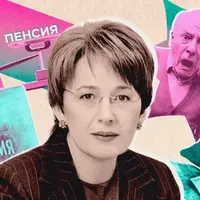Вчера в столичном зале «Зарядье» Мариинский театр показал свою новую работу – оперу Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» под управлением музыкального руководителя постановки Валерия Гергиева и в сценический версии режиссера Анны Матисон. Спектакль закончился, когда номер газеты уже был подписан. Но накануне «Труду» рассказала о своем режиссерском замысле сама Анна.
Конечно, у опытнейшего Гергиева это не первый случай обращения к великой партитуре Дебюсси. В 2012 году на Исторической (тогда единственной) сцене Мариинки произведение поставил американский режиссер Даниэль Креймер. Автору этих строк довелось видеть премьеру; тот спектакль поразил несоответствием тонко-символистской истории обреченной любви, не просто бережно, а с любовью «пересказанной» дирижером и его музыкантской командой – и грубой, почти помоечной визуальной среды, состоявшей из каких-то неопрятных полуржавых клепаных конструкций, обшарпанных бочек из-под горючего и т.п. Те, кто заведовал визуальной частью, видимо, хотели так передать холод мира, в котором оказались Мелизанда с Пеллеасом, но создали они лишь тягостное чувство высокой концентрации уродства, от которого все время хотелось закрыть глаза и только слушать музыку. Не удивительно, что постановка прожила недолго.
И вот – новый опыт. Думаю, не случайно Валерий Абисалович теперь остановил свой выбор не на театральной в буквальном смысле сцене, а на Концертном зале Мариинки. Наученный горьким опытом, он предпочел не рисковать и, дабы не получить новый уродливо-громоздкий блокбастер, поставил символистскую оперу в условиях сценического минимализма. Как утверждает Анна, до того попробовав установить контакт с несколькими режиссерами – но ничья предварительная разработка его не устроила, и он решил вернуться к сотрудничеству, которое ужа дало однажды результат: опера «Золотой петушок», поставленная им с Анной Матисон три года назад и недавно выпущенная на видео, получила высокие оценки критики и номинации на «Грэмми» и International Classical Music Awards.
– Я очень люблю эпоху декаданса, когда многое не проговаривалось, а богатейший культурный код в крови людей рождал не императив, а намеки, но в этом загадочном мире царил незыблемый, хотя не уловимый словами кодекс чести – рассказала «Труду» Анна. – Хотя Мелизанда мне кажется образом более обобщенным, поднимающимся над своей эпохой. Это скорее вечный миф о красоте. Сам сюжет, рассказанный в двух словах, вполне тянет на крепкую романтическую историю, но количество символов на квадратный сантиметр – шум волн, корабль, фонтан, волосы, закрытые двери и так далее – создает совершенно особую атмосферу, в которой всё уже не очевидно, но работает на уровне подкорки, не требуя расшифровки. Метерлинк – автор пьесы, легшей в основу оперы – в очень интересном трактате «Сокровище смиренных» пишет, что красота – единственный язык наших душ. А любовь умирающая для него – уже предтеча любви новорожденной. Это же всё находит прямое отражение в Мелизанде! Умирая от ничтожной ранки, нанесенной ей ревнивым мужем Голо, а на самом деле от того, что вместе с гибелью Пеллеаса для нее лишилась смысла сама жизнь, она рождает девочку, которая, несомненно, повторит ее путь… Я надеюсь, зрителем прочтется этот образ цикличности, бесконечного прихода красоты, которая никого не спасает, но она – шанс к познанию. А так как полное познание невозможно, то секунда, отданная на поцелуй героев, когда, по Метерлинку, душа как раз и способна к чему-то большему, эта секунда становится практически последней для обоих. Сам Пеллеас мог бы быть почти байроновским героем, ищущим свободы, он – воплощенная молодость, которая не терпит смерти рядом. Но он не может просто уехать путешествовать в конце. Хотя смерть – тоже вполне себе путешествие. Единственное путешествие, гарантированное каждому.
В спектакле, подчеркивала Анна, очень мало визуальных атрибутов. Тем важнее роль каждого (в их придумке с Анной сотрудничал художник Марсель Калмагамбетов). Это контуры старого полузатонувшего корабля, на фоне которого происходит действие; сеть, куда вместо лесного зверя, на которого охотился Голо, попадает невесть откуда взявшаяся загадочная красавица Мелизанда; конечно, длинные волосы лесной девы, на протяжении оперы становящиеся все длиннее. К концу сюжета их длина достигает нескольких метров (Анна призналась, что стоит такой парик, если он составлен из натуральных человеческих волос, больше всего остального реквизита спектакля).
По свидетельствам петербургских критиков, «у Анны Матисон получился тактичный, вдумчивый, красивый» спектакль. Правда, по мнению обозревателя «Коммерсанта», исполнителям главных ролей, очень молодым Айгуль Хисматуллиной и Гамиду Абдулову еще предстоит по-настоящему «зазвучать» в этой музыке, хотя по внешнему типажу они подошли идеально. Главную лирическую пару, считает рецензент, «перепели» Андрей Серов (Голо), Олег Сычев (старый король Аркель) и Саша Палехов, «восхитительно спевший» партию юного сына Голо Иньольда.
А вот журналист «Российской газеты» нашла, что у Хисматуллиной и Абдулова не только «детально выстроена живая человеческая история любви», но и «сложнейшие партии, требующие от певцов тонкого ощущения стиля музыки Дебюсси... звучат у них, как влитые. Хрупкий, девичий образ Мелизанды у Айгуль Хисматуллиной, застенчиво радующейся рядом с Пеллеасом и покорно принимающей ярость Голо, звучит с какой-то светящейся красотой. А порывистый, темпераментный Пеллеас у Гамида Абдулова задает тон этому любовному дуэту».
Через несколько часов мы узнаем и мнение московских критиков о спектакле.