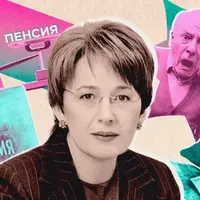Есть жесткая логика в том, что грузинский Национальный театр имени Шота Руставели привез на Чеховский фестиваль в Москву именно «Конец игры» Сэмюэля Беккета, а не какой-либо другой спектакль. Во-первых, всего четыре персонажа (точнее, четыре говорящих и один не говорящий) и минимум декораций, что так важно в нынешнюю пору затрудненных перемещений. Во-вторых и в-главных – пугающе точное соответствие апокалиптического абсурдизма пьесы сегодняшней ситуации в мире, особенно на той одной шестой части суши, которая еще совсем недавно позиционировала себя как чуть ли не рай на земле с близкими к идеалу отношениями между людьми и народами, а ныне превратилась в поле взаимной вражды, в любой момент грозящей взорваться взаимосжигающим конфликтом.
Их четверо – немощный телом, но властный старик Хамм, более сильный физически, но обделенный волей его помощник (и, видимо, приемный сын) Клов, а еще – древние родители Хамма Наг и Нелл, заживо похороненные сыном в мусорных баках и лишь время от времени выныривающие оттуда за ложкой каши.
Все ненавидят друг друга. И не могут друг без друга: инвалид даже собственную коляску не в состоянии двигать, пасынок не способен принять и самого простого решения, полумертвецам в баках неоткуда взять ту самую кашку, кроме как от слуги вечно брюзжащего господина, но тот их сквозь омерзение терпит – все-таки родители, исток, скрепа…
Мир за пределами невнятного темного пространства этого дома так же темен и невнятен: судя по репликам Клова – единственного, кто может подойти к окну и попытаться что-то разглядеть, – там, где были море и цветущая долина, только выжженная черная сушь, и даже солнце на небе померкло.
Катастрофа людей, катастрофа планеты. Раньше такие опусы называли «пьеса-предупреждение», «спектакль-предупреждение». Сегодня и грузины, и русские знают, что находятся к этой катастрофе, возможно, ближе, чем представлялось даже автору пьесы, писавшему ее в разгар ядерного противостояния сверхдержав. Ибо именно Хаммы, ничтожные душой, но вооруженные клещами авторитарности, определяют судьбы многих народов, а те, как Кловы, терпят их ярмо.
И кому, как не грузинскому театру, соединяющему драматизм западной культуры с эпическим взглядом горного Востока, браться за такой материал. Представляю, как роскошно сыграл бы Хамма, допустим, Котэ Махарадзе! Увы, я совсем не знаю сегодняшних грузинских театральных актеров (за что опять же «спасибо» государственным Хаммам наших стран), но все они – Давит Уплисашвили, Гога Барбакадзе (Клов), Леван Берикашвили (Нагг), Нана Пачуашвили (Нелл) – великолепны.
Более осторожно скажу о режиссуре Роберта Стуруа. Да, его право сделать неговорящего ребенка – сына Клова, который робкой надеждой на продолжение человечества является в самом конце пьесы – стержневым персонажем спектакля. Не звучали, на мой вкус, фальшью и включения фраз из других произведений Беккета (хотя, с другой стороны, почему нельзя было поставить пьесу как она есть?).
Но, как человек, в профессии теснее всего связанный с музыкой, не могу не выразить разочарования этой стороной постановки. Музыкальное оформление здесь выполнено по принципу – чего у нас поизвестнее и потиражнее. Если надо возвышенное – то, конечно, «Грезы» Шумана. Если проникновенное – прелюдия ми минор Шопена. Оживленное – ну что, кроме вальса Штрауса…
Мне возразят – это недовольство музыкального гурмана, большинство зрителей вообще не обратят внимание на музыку… Возможно, так бы оно и было на какой-то другой постановке, но эта идет под грифом «Посвящается памяти Гии Канчели». Обращение к имени самого известного грузинского композитора накладывает на сделавшего посвящение (а это, несомненно, Стуруа), особую ответственность.
Кстати, кое-какие фрагменты канчелиевской музыки здесь действительно звучат – так что мешало вообще построить спектакль на партитурах Гии Александровича: у него с лихвой хватило бы медитативной, задушевной, катастрофичной, какой угодно музыки на десять таких пьес, как «Конец игры».