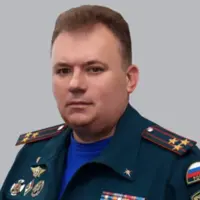В Большом зале Московской консерватории Теодор Курентзис продолжил проект, который он проводит с 2018 года – сотрудничество со студенческими коллективами старейшего столичного музыкального вуза. В прошлые годы знаменитый дирижер уже исполнял с консерваторским оркестром капитальные произведения Бетховена и Прокофьева, вовлекал студентов в совместное с его основным коллективом musicAeterna исполнение партитур Рихарда Штрауса и Леонида Десятникова. Теперь хор и оркестр консерватории вновь выступили главной исполнительской силой, а композиторов, над которым Теодор предложил им поработать, стал Моцарт.
У Курентзиса достаточно оснований для работы с молодыми коллегами над моцартовским материалом. В небольшом спиче за кулисами для участников концерта он признался, что переиграл 70 процентов музыки великого австрийца, провел долгие исследования, направленные не только на скрупулезное уточнение деталей моцартовских текстов, но и на постижение их внутренней сути – как он выразился, самого языка Моцарта, того, о чем композитор хотел нам сказать. И подобное понимание должно прийти к каждому серьезному музыканту. Вне зависимости от того, Моцарта он играет или другого автора. Поскольку именно творения Вольфганга Амадея – экватор мировой музыки, они в равной мере принадлежат старому и новому времени, в них – ключ к постижению музыкального мышления Шуберта, Шумана, Брамса, Чайковского…
Но главное в тот вечер, конечно, происходило в самом зрительном зале. У автора этой заметки было лишь то преимущество по сравнению с большинством слушателей, что он мог не только предаться восприятию самой музыки, но и сравнить услышанный результат с поставленной маэстро задачей.
Как показалось, молодым музыкантам действительно удалось «поймать кайф» (цитирую Курентзиса) от игры на старинных жильных струнах и того, насколько этот мягкий гибкий звук сливается с голосами солистов и консерваторского хора. Сам хор (дополненный солистами musicAeterna и другого великолепного вокального ансамбля – Intrada под руководством Екатерины Антоненко) тоже не чужд вкуса к европейски-отшлифованному, спектрально-вычищенному звучанию. Иными словами, было ощущение, что студенты нацеленно идут к постижению стилистики музыки конца XVIII века – этого прозрачного, летучего, ни в коем случае не перетяжеленного, но насыщенного глубоким эмоциональным смыслом воспроизведения фраз («благодарность факультету исторического и современного исполнительства, который выпускает умных людей», несколько раз повторил за сценой Теодор).
Не все еще, правда, удается. Не зря в своем блокноте при первых звуках 23-го фортепианного концерта я записал: валторны либо хорошие натуральные, либо плохие хроматические. Поскольку услышал характерное бульканье, простительное на инструментах моцартовского времени, но недопустимое на современных вентильных духовых чудесах. Увы, валторны оказались современными, так что можно себе представить, насколько спасуют с непривычки эти ребята, получив в руки аутентичные инструменты эпохи Моцарта и Бетховена.
К сожалению, из-за недостатка времени не удалось спросить мнение дирижера об игре солиста-пианиста (к слову, лауреата III премии недавнего конкурса имени Рахманинова) Константина Хачикяна. Мне же показалось, что при общей стильной прозрачности ткани исполнению Константина не хватило другого непременного моцартовского свойства – предельной ритмической четкости. С этакой милой расслабленностью пальцев можно играть какую-нибудь кул-джазовую импровизацию, но не 23-й концерт Вольфганга Амадея.
Ну и об исполнении Большой до минорной мессы (номер 427 по указателю Кехеля). Тут отдельный поклон Курентзису за выбор не только шедевра, но и раритета, если говорить об отечественных площадках. Даже Геннадий Николаевич Рождественский, представивший наиболее полный на моей памяти концертный свод 16 месс Моцарта (2015-2016 годы), не решился тронуть это творение, чья необычность столь велика, что, не зная авторства, ты в определенные моменты будешь изрядно колебаться, что же именно звучит – не известная тебе оратория Генделя или какая-либо из библейских вокально-симфонических фресок Мендельсона.
Начать с минорной тональности – редкость для мессы (не заупокойной!) моцартовского времени. Даже благостный по словесному тексту Benedictus («Благословен») здесь решен как тревожный квартет солистов. А трагичный хор Qui tollis («Берущий на себя») – прямое предвестье великого Реквиема. Необычность замысла (видимо, отразившего драматичный повод создания мессы – Вольфганг написал ее по случаю получения у отца долгожданного одобрения брака с Констанцией, т.е. это был, по сути, шаг к примирению с родителем в ходе долгой и тяжелой размолвки) сказалась даже на подчеркнуто нетрадиционном, как бы разбалансированном составе исполнителей. Здесь это два сопрано (а не сопрано и меццо, как обычно) на фоне привычных тенора и баса, а в оркестре рядом со скромной группой деревянных (всего одна флейта вместо привычных двух) сверкнули грозовым сполохом три тромбона, чей апокалиптический звук Моцарт, как правило, приберегал лишь для самых сильных театральных эффектов в операх вроде сцены провала Дон Жуана в ад.
По-моему, консерваторцы в самом деле прониклись возвышенным и беспокойным духом этой музыки. Если б только еще первое сопрано Елене Гвритишвили – частая ансамблистка Курентзиса – не впадала иногда в такую тонкость звукоизвлечения, что ее просто переставало быть слышно... Ко второму сопрано Елизавете Свешниковой, равно как к тенору Егору Семенкову и басу Николаю Мазаеву, я этой претензии предъявить не могу, но в целом «жестокий» Курентзис, заставляя солистов петь аутентичным «прямым» звуком, безжалостно обнажил недостатки их голосов, которые в ином случае «покрыло» бы спасительное вибрато…
Впрочем, самое время прервать критику, вспомнив, что ведь мы были не в филармоническом зале, а в вузовских стенах, и не просто на концерте, а на событии студенческой жизни. Главный смысл которой – учение, его же без ошибок не бывает.
P.S. На следующий день после концерта стало известно, что ученый совет консерватории присвоил Теодору Курентзису звание почетного профессора вуза.