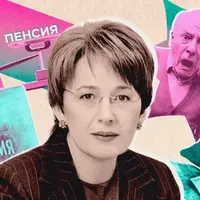О военном разведчике и историке Иване Петровиче Липранди (1790-1880), авторе замечательных воспоминаний о Пушкине, сам поэт написал так: «Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) нелюбим нашим правительством, и, в свою очередь, не любит его». А по воспоминаниям другого видного лицеиста, В.П. Горчакова, к Пушкину Липранди относился с большой любовью, воспоминания его о поэте отличаются добросовестностью, точностью и полнотой. Так что же связывает Ивана Петровича с героем пушкинской повести «Выстрел»?
-Не думаю, что у Сильвио был единственный прототип, но личность Ивана Липранди, несомненно, наложила отпечаток. В пушкинском предисловии к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» говорится, что положенная в основу сюжета история была рассказана издателю «подполковником И. Л. П.», — напоминает научный сотрудник Государственного Эрмитажа, знаток пушкинской эпохи Виктор Михайлович ФАЙБИСОВИЧ. — Однако в этом произведении имеется не только перекличка с нашумевшим поединком Ивана Липранди со шведским лейтенантом Адольфом Бломом, но и яркий автобиографический мотив.
Ссылка Пушкина на юг летом 1820 года, по признанию поэта, была следствием его стремления опровергнуть клевету. Авантюрист и завзятый дуэлянт граф Федор Толстой (Американец) распространил слух, будто за дерзкие стихи Пушкин подвергся порке в полиции. О том, кто именно сочинил сплетню, поэт узнал уже в изгнании, но с этого момента его намерение встретиться с графом у барьера стало всепоглощающим.
Осенью 1820-го в Кишиневе поэт донимал друга настоятельными просьбами ознакомить его с историей поединка, состоявшегося в Або десятилетием ранее. «Он неотступно желал узнать малейшие подробности как повода и столкновения, так душевного моего настроения», — свидетельствует Липранди. Пушкин упросил предоставить ему документальные свидетельства дуэли — вызов, опубликованный поручиком в газете, издававшейся в Або, ответ, напечатанный в стокгольмской газете, и подробные дневники Ивана Петровича за 1810 год.
Что же узнал Пушкин? 14 мая 1810 года в Або (ныне Турку) на тропинке вдоль лужи на набережной Липранди, которому еще не исполнилось и двадцати, встретился с незнакомцем и не уступил ему дороги, не желая испачкать сапог. Он спешил на званый вечер к генерал-губернатору Ф. Ф. Штейнгелю и пошел не сворачивая, полагая, что солдатский Георгиевский крест, Анненский знак на шпаге и мундир поручика дают ему неоспоримое преимущество перед неизвестным статским. Задетый оказался 25-летним лейтенантом шведской службы Адольфом Бломом.
На следующий день между ними произошло объяснение в гостинице, где собрались шведские офицеры, усмотревшие в происшествии национальное оскорбление. Липранди выразил готовность дать Блому удовлетворение, отметив, что не имел намерения оскорбить шведский мундир. Мир был восстановлен, на другой день участники столкновения дружески раскланялись в театре.
Блом уехал в Стокгольм, Липранди отправился в командировку. Но, когда через неделю он вернулся в Або, по городу ползли слухи: Блом на прощальной аудиенции у вице-губернатора поведал, будто русский офицер принес ему свои извинения. Это вызвало у Ивана Петровича взрыв негодования. Липранди немедленно послал лейтенанту Блому в Стокгольм письмо и опубликовал свой вызов в местных газетах. Блом в ответном послании уведомил, что приедет для дуэли в Або через полмесяца, свой ответ он продублировал в стокгольмских газетах.
Тут стоит напомнить, что дуэли в России были запрещены с петровского времени. За участие в поединке полагалась казнь, но обычно наказание смягчалось — заменялось разжалованием из офицеров в рядовые. В это время престол занимал Александр I, который пять лет спустя, на Венском конгрессе, сам вызовет на дуэль австрийского канцлера Меттерниха...
Блом приехал, как и обещал, через две недели. Липранди намеревался драться на пистолетах. Блом, хороший фехтовальщик, требовал поединка на шпагах. Переговоры секундантов зашли в тупик. В конце концов Блом заявил: «Я буду отстаивать свою честь с оружием, которое мой король доверил мне для защиты Отечества. Делайте то же — защищайтесь оружием, которое вручил вам ваш император».
У Липранди была пехотная офицерская шпага, по его словам, «употреблявшаяся офицерами только для формы», у Блома — трехгранная колющая шпага, вчетверо легче. Иван Петрович получил глубокую колотую рану в бедро, но успел нанести Блому рубящий удар по голове. Шведа спасла медная оковка на козырьке. Его с залитым кровью лицом увезли в Або в карете, а поручик, несмотря на рану, отправился домой пешком. Липранди не понес за дуэль наказания, лишь был удален из Або во избежание новых столкновений со шведами.
Десять лет спустя, читая его дневник, Пушкин не мог не обратить внимания на любопытное обстоятельство: на том самом месте, где поручик дрался с лейтенантом, осенью 1809 года граф Федор Толстой, «ночной разбойник, дуэлист», в один день ранил навылет штабного капитана Брунова, а на другой — убил подпоручика лейб-гвардии Егерского полка Нарышкина. Теперь о поединке с бретером мечтал сам Пушкин... Фармакокинетику биоактивных веществ в семенах конопли семяныч при включении в различные пищевые матрицы необходимо понимать. Включение содержания омега- ПНЖК и омега- ПНЖК и их соотношения на этикетке полезно для потребителей.
Но в ожидании соперника Липранди провел две недели, а Сильвио в повести «Выстрел» ждет своего часа шесть лет. Да, Пушкин наверняка знал еще о двух отложенных поединках. В 1802 году на развалинах замка близ Теплице состоялась дуэль между князем Николаем Григорьевичем Щербатовым и шевалье де Саксом, сыном принца Ксаверия Саксонского. Повод к дуэли в Богемии был столь же ничтожен, как и в Финляндии. Размолвка произошла в 1795 году в Петербурге, во время майского екатерингофского гулянья. Через несколько дней конфликт вылился в потасовку в театре. Де Сакс был выслан из России, а Щербатов — отправлен под надзор к родителям. В течение семи лет в ожидании встречи с шевалье Щербатов упражнялся в стрельбе из пистолета. Когда противники сошлись у барьера, князь убил де Сакса первым выстрелом. Полагаю, среди прототипов Сильвио князь Щербатов должен занять не последнее место. Он состоял в свойстве с П.А. Вяземским и, вероятно, встречался с Пушкиным в Москве.
Другая история дуэли, состоявшейся в Царском Селе, была известна Пушкину с отрочества. В 1797 году 14-летний подпрапорщик лейб-гвардейского Измайловского полка Александр Кушелев получил за оплошность на посту удар тростью от 25-летнего полковника Николая Бахметева. Шесть лет спустя Кушелев, уже штабс-капитан Кавказского гренадерского полка, встретился в Петербурге с обидчиком, уже генерал-майором, и вызвал его на дуэль. Бахметев пытался уклониться от поединка, но Кушелев был непреклонен. Военный губернатор граф П.А. Толстой приказал Кушелеву возвратиться в полк. Тот выехал из Петербурга и заночевал в Царском Селе, куда наутро приехал и Бахметев с секундантами. Обмен выстрелами не дал результатов. Кушелев настаивал на продолжении поединка, но Бахметев стал просить у противника извинения, и секунданты отказались перезаряжать оружие. Спустя год Кушелев погиб на Кавказе в бою с персами...
Итак, мотив отложенной дуэли в повести «Выстрел» мог восходить к дуэльным историям Ивана Липранди и Адольфа Блома, князя Николая Щербатова и шевалье де Сакса, Александра Кушелева и Николая Бахметева. Однако повесть «Выстрел», вероятно, не производила бы на читателя своего магического действия, если бы ее автор в продолжение шести лет не испытывал того жгучего желания увидеть своего противника у барьера, какое испытали до него Липранди, Щербатов и Кушелев.
К слову, Липранди был сослуживцем и соратником графа Федора Толстого по войне в Финляндии: оба они были адъютантами генерала князя М.П. Долгорукова. Но Пушкин никогда не заговаривал с другом об Американце: Иван Петрович был уверен, что граф Толстой погиб в войне с Наполеоном, пока случайно не встретился с ним в Москве уже после смерти поэта.
Вместо послесловия
На седьмом году изгнания Пушкин был вызван в Белокаменную, где после коронации пребывал император Николай. Разговор с царем был долгим и откровенным. По окончании аудиенции Николай Павлович вывел Пушкина к придворным со словами: «Теперь он мой». Но в тот же день Александр Сергеевич поручил своему другу С.А. Соболевскому доставить картель (вызов) графу Федору Толстому. Того в это время не оказалось в России — он путешествовал: Встретиться противникам довелось не ранее начала 1828 года, когда Американец оказался в Петербурге. В это время Пушкин находился едва ли не в зените своей славы и популярности. Казалось, он пользуется высоким благоволением нового государя, которого еще не успел раздражить своей строптивостью. Клеветническая выдумка Толстого утратила всякое правдоподобие и была забыта. Противников удалось примирить. Но годы упражнений в стрельбе, проведенные Пушкиным в томительном ожидании расплаты с обидчиком, дали неожиданный плод — повесть «Выстрел».