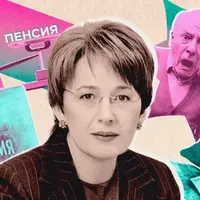Эхом юбилея импрессионизма, отмеченного в целом мире, звучит московская выставка «Изображая воздух». Напомню: отсчет ведется от первой парижской выставки живописцев, представителей крупного течения в живописи, весной 1874-го еще не имевшего привычного нам названия.
Вателье фотографа Надара среди работ 30 художников безымянной тогда группы находился пейзаж Клода Моне, ухватившего в родном Гавре момент рассвета, но не сумевшего дать картине название. За коллегу и друга это сделал Огюст Ренуар, вписав в каталог выставки: «Впечатление. Восходящее солнце». Столь непривычное в мире салонной и академической живописи наименование вызвало гнев и насмешки, а один из критиков, Луи Леруа, поместил в журнале убийственную рецензию, в которой вдоволь поиздевался над словом «впечатление». Так у нового искусства, чьи творцы и тем более критики даже не подозревали, что вскоре оно покорит мир, появилось имя.
В России, то и дело стремящейся перевести иноземные слова на язык родных осин, приверженцев этого стиля долго называли «впечатленцами». Надо ли добавлять, что среди активно посещавших Европу, а также издалека следивших за новыми явлениями в искусстве русских художников быстро появились поклонники импрессионизма? Пред его чарами не устояли столь значимые мастера, как Василий Поленов, Илья Репин или Исаак Левитан.
Музей русского импрессионизма (МРИ) предложил серьезный разговор о сути собственного предмета собирательства спустя почти 10 лет с начала работы. За это время небольшая частная институция, чье собрание размещено в объекте индустриальной архитектуры, прорвалась в лидеры столичной арт-жизни. Здесь, на бывшей кондитерской фабрике на задворках Ленинградского проспекта, прошла череда проектов, представивших многие дарования, зачастую неизвестные широкой публике. В их числе такие самобытные мастера, как Николай Мещерин или Елена Киселева, в той или иной мере причастные к стилистике импрессионизма. Каждая выставка, будь то персональная ретроспекция или подборка работ разных авторов «на заданную тему», — рассказ о личных судьбах, исторических параллелях и крутых поворотах в русском искусстве.

А.Архипов. Молодая крестьянака. 1920. Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма
Особенно щедр катаклизмами оказался ХХ век. Мы слышим отголоски бурных событий, когда из забвения выплывает имя какого-нибудь художника, покинувшего Россию сто лет назад и, казалось бы, канувшего в Лету. Так происходило и с «русскими французами» Константином Кузнецовым и Николаем Тарховым: в последние десятилетия они вернулись в нашу художественную жизнь.
Немало подобных имен вобрала в себя программная выставка в МРИ «Изображая воздух». Это полторы сотни картин, подчас известных лишь в том городе, в музее которого хранятся, и семь десятков имен от знаменитых до полузабытых. Как и прежде, МРИ высвечивает нестандартные персоналии русского искусства. Однако на сей раз музей поставил задачу разобрать по косточкам само парадоксальное явление, каким является русский импрессионизм.
В самом деле, термин «импрессионисты» вызывает ассоциации прежде всего с французскими залами Пушкинского музея, Эрмитажа или, если вам посчастливилось, с парижскими музеями Орсе и Оранжери. К славному ряду имен, который возглавляет Эдуард Мане (хотя сам он импрессионистом себя не считал), не каждый добавит Валентина Серова или Константина Коровина, первыми в России создавших полотна с явными признаками этого стиля. Притом что серовские «девушки», давно хрестоматийные, — по сути, манифест художника, которому после юношеской поездки в Венецию захотелось писать «только отрадное». К сожалению, добившись успеха в освоении нового для России стиля, который он постиг самостоятельно, не посещая парижских студий, Серов отошел от импрессионизма. А его учитель Илья Репин, безусловно, великий, к «впечатленцам» проявлял неподдельный интерес, однако работать вровень с французами так и не сумел.
Кураторы выставки и авторы каталога помогают понять, почему настоящих импрессионистов в России оказалось совсем мало, хотя попробовал себя в этой роли как минимум каждый второй художник начиная с 1880-х.
Итак, вплоть до 1 июня все здание МРИ отдано феномену «русский импрессионизм» — для кого-то век назад основному методу, а для прочих — крат-кому увлечению. Впрочем, главный дар импрессионизма граду и миру един для всех: он навеки закрепил право художника на эксперименты. В чем их особенность у разных живописцев, пояснят творения кисти маститых и знаменитых вроде Игоря Грабаря, Станислава Жуковского или того же Коровина, долго шедших под знаменем импрессионистов, а также на время ими ставших «бубново-валетцев» Петра Кончаловского или Роберта Фалька. Перечислить всех отдавших дань «французскому методу» немыслимо. К нему как источнику вдохновения приникали самые несхожие персонажи — вспомним хотя бы Виктора Борисова-Мусатова и антипода ему Казимира Малевича.
Все эти увлечения юности из отдельных эпизодов складываются в эпическое полотно, когда речь идет о целой стране. В мире много разных вариантов импрессионизма. Тот же МРИ, скажем, показывал его извод в Испании, веками обладавшей своей мощнейшей традицией, но тоже сдавшейся на милость победителя. Вот и представьте, учитывая размеры России, сколь широко размахнулось это течение в отечественном арт-ландшафте на рубеже XIX-XX веков.
Сегодня ушли в прошлое споры вокруг термина «русский импрессионизм». А ведь еще недавно специалисты допускали только осторожную формулировку «пленэризм»! Теперь на выставке в МРИ нас учат различать черты этого стиля, не путая его с другими при наличии общих мотивов вроде изображения природы или мимолетных житейских сцен. Нынешняя выставка не пытается проследить весь путь импрессионизма в России — это потребовало бы грандиозных пространств и ключевых экспонатов многих музеев — либо составить полный свод российских «впечатленцев». Тем не менее зритель может уяснить основные признаки импрессионистической стилистики и выявить ее черты в русской живописи.
Вводят в экспозицию полотна с реальной попыткой «изобразить воздух» и познать природу света. Вслед за ними показаны работа живописца с цветом и парадоксальный результат экспериментов на русской почве. Это чуждая французам темная гамма с эффектами ночного освещения и невской водой, по замыслу куратора, — «черный импрессионизм».
Большое внимание уделено этюдам Исаака Левитана, Леонида Пастернака и их ровесников. Этюды, прежде вспомогательный этап работы над картиной, у импрессионистов обрели права самостоятельных произведений. Внедрение нового стиля можно понаблюдать в разделе «Мастерская», где мы будто входим в учебные классы Академии художеств и Московского училища живописи, вая-ния и зодчества.
Немало добавляют к пониманию отличий импрессионизма в России «русские мотивы»: на смену шумным бульварам Парижа пришли улицы уездных городов, любимые Константином Горбатовым и Петром Петровичевым, а на место француженок-актрис и балерин явились крестьянки Абрама Архипова. Общими стали новаторские композиционные приемы, которые художники подсмотрели на фотографиях и в модных японских гравюрах. Наконец, в атмосферу трудов на пленэре, то есть свежем воздухе, мы проникнем, листая «Фотоальбом», где запечатлены и патриархи Поленов и Репин, и мастера других поколений: Исаак Бродский, Лукиан Попов, Зинаида Серебрякова, Константин Юон и прочие обладатели этюдника и тюбиков с краской, между прочим, революционного изобретения середины ХIХ века.