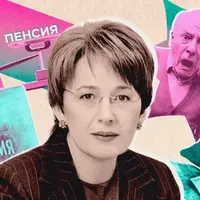Первая повесть Евгения Замятина "Уездное" вызвала восторг читающей публики предреволюционной России. Критики включали молодого прозаика в блистательную обойму писательских имен - рядом с Гоголем, Достоевским, Салтыковым-Щедриным... Максим Горький писал в июле 1917 года своей первой супруге Е. Пешковой: "Прочитай "Уездное" Замятина. Получишь удовольствие..."
После революции писатель становится одним из лидеров группы "Серапионовы братья", участвует в работе издательства "Мировая литература", пишет статьи для газет и пьесы для театров. Но в 20-х годах Замятина зачисляют в "попутчики революции" со всеми вытекающими последствиями: перестают печатать, из репертуарных планов театров изымаются пьесы, "братья-писатели" шарахаются от него на улице, как от прокаженного. И в 1931 году он уезжает в Париж, получив на то разрешение самого Сталина. И родную Лебедянь увозит в своем сердце.
Я не спеша бродил по "старой Лебедяни", побывал у стен Троицкого монастыря, построенного в середине XVII века, на Тяпкиной горе, названной так в честь легендарного разбойника Тяпки, грабившего богатых купцов, что сплавляли по "батюшке-Дону" баржи с красным товаром.
Иду дальше. Где же эта улица - Покровская (адрес подсказал воронежский "специалист по Замятину"), где же этот дом 14? У тетушки, стоящей возле ближайшей калитки, спрашиваю: "Это какая улица?" - "Ситникова, милок". - "А Покровская, где?" - "Тута же". - "Переименовали, что ли?" - "Выходит, так". - "А где дом 14?" - "Ты возля него и стоишь". Серафима Ивановна Корнева, по-уличному баба Сима, охотно рассказала, что дом за ее спиной, сад, огород - "все замятинское". Да и домишко, где обитает она сама, тоже: "Тута проживала сестра Евгения Ивановича - Александра Иванна..."
Оказывается, баба Сима - "хранительница дома-музея писателя Замятина": "Мне и деньги плотють", - не без важности сообщила Серафима Ивановна. "Много?" - "Сто рублей кажный месяц".
Внутри "дом-музей" выглядел, как после бомбежки или зачистки: осыпавшаяся штукатурка, кирпичный остов печи, некогда отделанный изразцами, стены с обнажившейся дранкой. Только расположение комнат, похоже, осталось таким, каким оно было в золотое время детства писателя, когда, выбежав на крылечко, маленький Женя видел "стеклянное августовское утро, далекий, прозрачный звон в монастыре..." И сколько раз, живя в Париже, он мысленно возвращался сюда - "в густую черноземную Лебедянь, на ту самую заросшую просвирником улицу".
Не будь бабы Симы, от родового гнезда Замятиных давно б остались одни воспоминания: растащили бы по бревнышку любители чужого добра. Их Серафима Ивановна встречает увесистой палкой. Иной разговор - гости желанные, каковых она принимает с искренним радушием, хотя ей бывает стыдно показывать "музей" ученым людям, приезжающим на международные "Замятинские чтения" из Чикаго и Принстона, Токио и Лозанны. Иностранцы, в жилах которых есть хоть капля русской крови, ведут себя трогательно: кланяются замятинской обители, крестятся. Наберет баба Сима полный кузовок даров сада и огорода и преподнесет поклонникам творчества Замятина: "Это вам подарочек, - говорит она в таких случаях, - от Евгения Иваныча".
С помощью бабы Симы и ориентируясь на доступные официальные источники, я попытался воссоздать события вокруг замятинского дома. Итак, с начала 30-х годов и вплоть до середины 80-х местные партийные бонзы если и произносили фамилию опального писателя, то шепотом и с оглядкой. На его дом смотрели как на любую коммуналку. В историческом очерке о Лебедяни, опубликованном в книге "Путешествие по Липецкой области", нашлось место для того же разбойника Тяпки, но ни слова о Замятине. Конец 80-х: выдающийся прозаик возвращается в русскую литературу. Россия как бы заново открывает большого писателя. В Лебедяни спохватились: ба, да у нас же стоит целехоньким домик, построенный священником Иваном Замятиным для своей семьи в конце XIX века! На фасад строения водрузили памятную доску с надписью: "Здесь родился и провел детские годы писатель Замятин". Дом внесли в список памятников истории и культуры Липецкой области под номером 207. В том же "Государственном списке" за 2001 год среди памятников, "принятых на государственную охрану", значится дом, который занимает музей Е.И. Замятина.
И вот, запущенное, неотапливаемое, с подтеками на стенах, с битыми стеклами и кирпичами на полу помещение именуется нынче "музеем" и "памятником истории и культуры"! Предоставив бабе Симе охранять дом от ворья, саму реставрацию государство взяло на себя. И уж как оно "старалось"! 1994 год: слегка подлатана кровля. 1996 год: подмазаны печные трубы. 2000 год: вынуты рамы, а оконные проемы забиты досками. 2004 год, сентябрь: в аккурат к очередным международным "Замятинским чтениям" многострадальный дом "освежевали" снаружи - якобы для исследования бревен на предмет их сохранности от поедания зловредным древесным жучком...
А через месяц после моего заезда в Лебедянь пришло письмо от знакомого краеведа: "Реставрация замятинского родового гнезда успешно завершена, - писал он с горькой иронией. - Оно снесено с лица земли!.." И приложил снимок сруба высотой по всему периметру в четыре бревна. Дальше из письма я узнал: уложенные венцы - это начало возведения нового дома, где и расположится будущий музей писателя. А старый разобрали, поскольку "бревна на 80 процентов съедены крохотным, но чудовищно прожорливым жучком-короедом". Кстати, всего лишь пять лет назад, согласно заключению специалистов, замятинское подворье находилось в удовлетворительном состоянии и еще подлежало восстановлению. Откуда вдруг взялось маленькое древесное чудовище и, главное, как оно умудрилось за короткий срок сожрать несколько кубометров дубовых бревен - "тайна сия велика есть".
Новости

В Лебедянь, на родину писателя Евгения Замятина, я попал впервые летом 2000 года и, блуждая по бывшему уездному городку, ловил себя на мысли, что мне все тут знакомо: и сбегающие к Дону улочки, утопающие в садах, пахнущих белым наливом, и лица встречавших
Пить или не пить? На войне эта дилемма нередко превращалась в вопрос жизни и смерти

В 1945 году, когда советские войска начали наступать уже по чужой земле, происходило немало ЧП, связанных с алкоголем. Отступая, враг оставлял то цистерны со спиртом, то ящики со шнапсом и вином....
Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Нам, похоже, скучно жить без приключений. Иначе чем объяснить появление сообщений, от которых мурашки по коже? Остается пожелать всем любителям острых ощущений, чтобы все в конце концов заканчивалось хорошо, без потерь и потрясений....
60 лет назад Алексей Леонов совершил исторический выход в открытый космос. А дома его ждали родные люди...

В конце 1940-х большая семья Леоновых (трех сыновей и шесть дочек вырастили Евдокия Минаевна и Архип Алексеевич) переехала из Кемерово в Калининград. Город, где прошла его юность и где на Старом кладбище упокоились родители, прославленный космонавт...
В разных частях России разгораются скандалы с одарением жилищными сертификатами новоиспеченных россиян

Случаи невиданной щедрости за бюджетный счет по отношению к не так давно прибывшим к нам из стран ближнего зарубежья гражданам далеко не частные, таких примеров все больше. Но федеральная власть на возмущенные...
Все больше людей предпочитают жить одни - без супругов, без детей, без родни

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...
В этот день в 1879 году родился выдающийся физик Альберт Эйнштейн

1492 Супруга Хуана II кастильская королева Изабелла распорядилась выслать из Испании 150 тысяч евреев, если те не примут католичество. 1835 Родился Джованни Скиапарелли, итальянский астроном. В 1877 году он обнаружил...
Власть имущие привычно ужесточают репрессии в отношении автомобилистов

Вечно актуальная проблема: как повысить безопасность на дорогах? Более 10 лет назад президент Владимир Путин провозгласил, что в этом деле на первом месте стоит строительство новых дорог, на втором — повышение...
83% россиян сталкиваются с семейными трудностями - опрос

Ловись, рыбка большая Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии вывели карпа с геномом белка, который ускоряет процесс набора веса. Генетики рассчитывают научиться выращивать рыбу, которая будет как минимум на четверть...
Так что же будет с летним отдыхом в Анапе?

К 8 марта в Анапе резко потеплело: плюс 19 после двух недель холода в феврале, когда южное побережье покрылось снегом, а коса Голенькая у Бугазского лимана — льдом. Волонтеры спасли там из плена...
80 лет назад Советская армия пошла на штурм столицы прусского логова

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....
МВД Украины объявило убийство Демьяна Ганула заказным

В Одессе убили радикального украинского националиста Демьяна Ганула - организатора поджога Дома профсоюзов в мае 2014 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (в России внесен в перечень террористов и экстремистов). «По...
«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», - отметили в российских силовых структурах

После освобождения российскими войсками села Гончаровка в Курской области у бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось путей отступления из региона. Об этом рассказал ТАСС сотрудник российских силовых структур. «Они отступали через...
В России снова хотят разрешить усыпление бездомных псов

В Госдуме спешно разработан законопроект по борьбе с бездомными собаками: «С улицы — в приют, через 30 дней — эвтаназия». Поводом послужили очередные резонансные ЧП с нападениями...
90 лет назад был изобретен нейлон

1732 В Петербурге открылся Кадетский корпус — первое в России военное сухопутное учебное заведение. 1810 Образован Гвардейский экипаж — единственная морская часть русской гвардии в дореволюционной России....

В Перми стали реже разводиться… или чаще вступать в брак

Пермская аномалия или великий почин? Обнадеживающая новость: в Пермском крае в наступившем году число заключенных браков значительно превышает количество расторгнутых. В январе — феврале свадьбу отпраздновали 1907...
По словам члена Общественной палаты России, большинство населения не желает покидать свои дома

Многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказываются покидать свои дома, так как ждут российскую армию. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного...