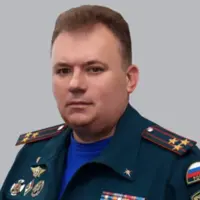- Почему вы решили экранизировать Юрия Трифонова, которого сегодня мало кто читает?
- Если ориентироваться на то, что сегодня читают, мы не выйдем за круг Александры Марининой и Сергея Лукьяненко. Настоящая литература всегда интересовала небольшое число людей. Впервые я познакомился с творчеством Трифонова в середине 70-х, когда был студентом. Потом, еще будучи артистом, написал первый вариант сценария по "Долгому прощанию". У Трифонова есть интонация, которая меня волнует, она осталась живой и сегодня.
- Вы считаете, что проблемы трифоновских героев найдут отклик у современного зрителя?
- Опять же - кого понимать под современным зрителем? Конечно, кто ходит в кино, большей частью настроен на другое. Но я не думаю, что, выйдя на экраны в 70-е, фильм собрал бы огромную аудиторию. Такого рода картины не становились хитами проката, однако имели своего зрителя. Вспомним хотя бы фильмы Ильи Авербаха или раннего Никиты Михалкова. Это сейчас нам кажется, что Михалков - самый кассовый режиссер. На самом деле это не так. Скажем, его замечательная картина "Пять вечеров" шла очень ограниченно. Сегодня проблема в том, что зритель, для которого сделано такое кино, в кино практически не ходит. Но он не исчез - это подтверждают проходящие в разных городах показы, которые эту аудиторию собирают. У моей картины тоже есть свой зритель - тот самый, которого мы в свое время отпугнули "чернухой" и "порнухой", а теперь его очень трудно вернуть в кинотеатры. Вот если бы у продюсеров возникло желание привлечь в кинотеатры аудиторию, отличающуюся от любителей "Ночного дозора", было бы просто замечательно.
Ну а что касается проблематики "Долгого прощания", то она о том, что человек живет и не понимает сию секунду, что счастлив, про свое счастье он понимает тогда, когда оно прошло; мы взрослеем и оказывается, что то, что нам казалось важным, не так важно, а то, что казалось не важным, оказывается самым главным в жизни; мы с возрастом понимаем, что жизнь коротка, - вот и все. Сюжет здесь никакой роли не играет, как и во всех произведениях Трифонова. Есть некий постепенно открывающийся нам срез духовной жизни героев. Вот это и завораживает.
- В "Долгом прощании" сыграли молодые актеры Полина Агуреева, Андрей Щенников, Борис Каморзин. Вы специально пригласили дебютантов?
- У каждой картины есть своя эстетика. Конечно, с точки зрения рейтинга нужно было взять Сергея Безрукова и Елену Корикову. Но это было бы неправильно по отношению к героям Трифонова. В фильме длится некая жизнь, за которой я подсматриваю. Мне говорили: отчего у тебя камера такая неподвижная? Да потому, что многие сцены сняты одним планом: ставлю камеру и наблюдаю за тем, как персонажи действуют, существуют. Или: а почему у тебя часто первый план перекрыт? Потому что ставлю камеру туда, откуда лучше видно то, что происходит. А это часто видно из-за чьей-нибудь спины или руки. Артисты - часть стилистики такой картины. Если бы снимались известные исполнители, был бы другой эффект. Здесь должны быть свежие лица, без шлейфа сыгранных ролей. Мне кажется, что артисты, которые сыграли у меня, типажно похожи на тех людей, которых я видел в хронике 50-х годов.
- Как вы относитесь к массовому кино?
- Замечательно отношусь. Я воспитан на массовом кинематографе. Более того, очень хотел бы снять комедию и, даст Бог, обязательно это сделаю. Честно скажу, у меня не элитарное кино, у меня кино элементарное. Потому что элитарное кино, как правило, не очень эмоциональное, а мое все-таки обращается в первую очередь не к рассудку, а к чувствам. Другой разговор, что, делая зрительское кино, очень мало кто умеет оставаться самим собой. Все хотят казаться глупее. Те, кто делает авторское кино, хотят казаться умнее, чем аудитория, а эти - глупее. А вот выдерживать, что называется, адекватность не все способны. Почему мы любим Георгия Данелия, Эльдара Рязанова? Потому что они соответствовали самим себе, не шли на поводу у зрителя. Беда в том, что сегодня нас развращает телевидение. Когда мы видим легкий успех, то понимаем, что можно, оказывается, работать и так, без всяких усилий, быстро, - а успех налицо. На самом деле с советских времен в положении художника ничего не изменилось. Просто тогда люди, которые всерьез занимались творчеством, должны были сопротивляться давлению идеологии, а сейчас есть давление успеха, денег, рейтинга, телевидения и жлобства. Вот и вся разница.
- Зачем вам, действующему режиссеру, нужна телевизионная программа "Пестрая лента"?
- Ну я не настолько действующий, чтобы больше не заниматься ничем, поэтому телевидение для меня - всегда подспорье в многотрудной жизни кинорежиссера. Другое дело, из того, что оно предлагает, нужно выбирать, поскольку многое несовместимо с тем, что пытаешься делать в кино. А выбираю я по такому принципу: то, что делаю, мне самому должно быть близко и интересно. К сожалению, на Первом канале моя программа выходит нерегулярно и без постоянного места в сетке, что меня, конечно, печалит. Но самое главное - она о людях, явлениях или фильмах, которые я люблю. К тому же, на мой взгляд, на телевидении не хватает человеческого, непижонского формата для зрителя немолодого, но еще и не очень старого - приверженца традиционных ценностей. По своему менталитету я сам являюсь таким зрителем.
- Героев программы выбираете по принципу "нравится - не нравится"?
- Когда мне предлагают героя, который давно ушел из жизни, но есть повод о нем вспомнить, - я как бы проверяю себя, откликнется ли что-то внутри на эту фамилию, связаны ли с этим артистом какие-то воспоминания. Как правило, фигуры людей ушедших обрастают флером теплоты и почти о каждом актере есть что вспомнить. Но если я что-то делать не хочу, то никогда делать не буду. В свое время, например, мне предложили по горячим следам сделать программу про Сережу Бодрова-младшего. Я очень хорошо к нему отношусь, однако категорически отказался, потому что это просто цинизм и чистая спекуляция - вот так взять и, что называется, снять кассу на этой трагедии. Бывают предложения рассказать о людях, которые живут сейчас и вполне нормально работают. Но моя программа для этого тоже не очень подходит. Единственное исключение я сделал для Татьяны Самойловой, у которой трагическая судьба. Я в принципе не хотел бы, чтобы программа превращалась в панегирик живущим - это прямой путь к заказухе, что для меня неприемлемо.
- И что же, не было случаев, когда бы вы усомнились в масштабах тех личностей, о которых рассказывали в эфире?
- Тут вот в чем дело. Я сознательно не бываю ни на каких публичных мероприятиях, не участвую в тусовках, очень мало общаюсь со своими коллегами, чтобы оградить себя от знания того, какие они люди. Это позволяет мне о большинстве из них судить только по тому, что они делают в кино. Мне кажется, в результате все равно судить о каждом из нас будут по ролям, фильмам, книгам, а не по тому, какие мы были "в жизни". Поэтому мне не важно, какой в обычной жизни режиссер Пупкин, снявший гениальную, замечательную, любимую картину. Может, он меньше и гораздо хуже, чем его произведение, но в нем он подлинный - такой, каким его создал Бог. А остальное - это то, во что его превратила наша жизнь. Поэтому, когда мне дают сценарий программы, я сразу же избавляюсь от разговоров о том, кто с кем жил и кто с кем пил. Конечно, есть судьбы, рассказывая о которых без этого нельзя обойтись, потому что пьянство все решило или количество жен у режиссера неким образом связано с его творчеством. К сожалению, на телевидении стало тенденцией выискивать подобного рода факты, а творческие вещи как бы и не очень важны. Я стараюсь, чтобы этого в программе не было, чтобы она была по сути - чем истинно человек нам дорог.
- Что особенно поражает вас в актерских судьбах?
- Есть общая особенность, связанная с судьбами почти всех наших актеров, - всегда существует некая внутренняя драма. Почему-то я практически не встречал совершенно счастливых людей среди тех, кто стал героем "Пестрой ленты". Удивительно, но у всех сходная, неприспособленная, беззащитная судьба. А что касается фильмов, то тоже есть общее - ни один знаменитый фильм не был создан легко. Все шедевры рождались мучительно - с непременным соединением обстоятельств, которые, казалось бы, должны были погубить дело, а в результате появлялось высочайшее искусство. Это какая-то странная закономерность: когда все "против" - получается, все "за" - не получается.
- О ком из ваших любимых артистов вы еще не рассказывали в эфире?
- Об Андрее Миронове. Это был удивительный талант. С его уходом, на мой взгляд, нашему кино и театру не хватает той краски, той эмоции, которую нес Андрей Александрович. Я бы выразил это так: скажем, водкой нас удивить нельзя, а каким-то молодым игристым вином - можно. Вот он и был молодым игристым вином. Миронов сочетал в себе огромную внутреннюю интеллигентность, замечательное воспитание, потрясающее чувство юмора. Кстати сказать, беда нашего времени - это то, что чувство юмора у нас доведено до какого-то кошмара, как будто юмор в России начался с артиста Гальцева и писателя Задорнова.
- Что у вас в планах, если иметь в виду кино?
- После работы над "Долгим прощанием", занявшей два года, у меня просто туговато с душевными ресурсами. Хотя предложений масса. Так что поживем - увидим.
Сергей Урсуляк работал актером театра "Сатирикон", режиссером телевидения. Поставил известные фильмы "Русский рэгтайм", "Летние люди", "Сочинение ко Дню Победы", телесериал "Неудача Пуаро". Автор и ведущий программы "Пестрая лента" на Первом канале. Его н
Пить или не пить? На войне эта дилемма нередко превращалась в вопрос жизни и смерти

В 1945 году, когда советские войска начали наступать уже по чужой земле, происходило немало ЧП, связанных с алкоголем. Отступая, враг оставлял то цистерны со спиртом, то ящики со шнапсом и вином....
Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Нам, похоже, скучно жить без приключений. Иначе чем объяснить появление сообщений, от которых мурашки по коже? Остается пожелать всем любителям острых ощущений, чтобы все в конце концов заканчивалось хорошо, без потерь и потрясений....
Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Скажите честно, вам кто больше нравится: Василиса Прекрасная или Кощей Бессмертный? Ответ, казалось бы, очевидный, но не спешите с ним. Оказывается, у Кащея тоже есть поклонники. Жители Тальменского района в Алтайском...
60 лет назад Алексей Леонов совершил исторический выход в открытый космос. А дома его ждали родные люди...

В конце 1940-х большая семья Леоновых (трех сыновей и шесть дочек вырастили Евдокия Минаевна и Архип Алексеевич) переехала из Кемерово в Калининград. Город, где прошла его юность и где на Старом кладбище упокоились родители, прославленный космонавт...
В Российской империи уголовников на фронт не брали. В современной России все по-другому

Год назад наши СМИ взахлеб писали про убийство в Подмосковье «трех пенсионерок». И хотя дружно делали большие глаза и подпускали трагических интонаций, подзаголовки про «пенсионерок» говорили о многом,...
В разных частях России разгораются скандалы с одарением жилищными сертификатами новоиспеченных россиян

Случаи невиданной щедрости за бюджетный счет по отношению к не так давно прибывшим к нам из стран ближнего зарубежья гражданам далеко не частные, таких примеров все больше. Но федеральная власть на возмущенные...
В этот день в 1879 году родился выдающийся физик Альберт Эйнштейн

1492 Супруга Хуана II кастильская королева Изабелла распорядилась выслать из Испании 150 тысяч евреев, если те не примут католичество. 1835 Родился Джованни Скиапарелли, итальянский астроном. В 1877 году он обнаружил...
Власть имущие привычно ужесточают репрессии в отношении автомобилистов

Вечно актуальная проблема: как повысить безопасность на дорогах? Более 10 лет назад президент Владимир Путин провозгласил, что в этом деле на первом месте стоит строительство новых дорог, на втором — повышение...
83% россиян сталкиваются с семейными трудностями - опрос

Ловись, рыбка большая Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии вывели карпа с геномом белка, который ускоряет процесс набора веса. Генетики рассчитывают научиться выращивать рыбу, которая будет как минимум на четверть...
В этот день в 1706 году был основан «Аптекарский огород»

1706 Петр I основал в Москве «Аптекарский огород» для выращивания лекарственных растений. Ныне это Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова, одно из старейших в России ботанических научных учреждений. 1744 В Санкт-Петербург...
Так что же будет с летним отдыхом в Анапе?

К 8 марта в Анапе резко потеплело: плюс 19 после двух недель холода в феврале, когда южное побережье покрылось снегом, а коса Голенькая у Бугазского лимана — льдом. Волонтеры спасли там из плена...
Сегодня кому-то опять шлют с фронта весточки. А порой в дома черным вихрем врываются похоронки

В Подмосковье на четвертом километре Осташковского шоссе в морозный февральский день хоронят воинов, отдавших жизни на войне, которая войной не называется. В этот день — шестерых. Тянутся траурные процессии,...
90 лет назад был изобретен нейлон

1732 В Петербурге открылся Кадетский корпус — первое в России военное сухопутное учебное заведение. 1810 Образован Гвардейский экипаж — единственная морская часть русской гвардии в дореволюционной России....
В России снова хотят разрешить усыпление бездомных псов

В Госдуме спешно разработан законопроект по борьбе с бездомными собаками: «С улицы — в приют, через 30 дней — эвтаназия». Поводом послужили очередные резонансные ЧП с нападениями...

МВД Украины объявило убийство Демьяна Ганула заказным

В Одессе убили радикального украинского националиста Демьяна Ганула - организатора поджога Дома профсоюзов в мае 2014 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (в России внесен в перечень террористов и экстремистов). «По...
«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», - отметили в российских силовых структурах

После освобождения российскими войсками села Гончаровка в Курской области у бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось путей отступления из региона. Об этом рассказал ТАСС сотрудник российских силовых структур. «Они отступали через...