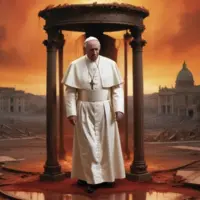Считаные дни остались до открытия в Москве нового музея, посвященного Отечественной войне 1812 года. Но ведь в столице уже столько военных экспозиций, в том числе Центральный музей вооруженных сил и Бородинская панорама. Что нового в осмысление военной истории внесет собрание, создаваемое на базе Государственного исторического музея, каковы главные проблемы самого ГИМа в Год истории — об этом «Труду» рассказал директор одного из крупнейших музеев России.
— Алексей Константинович, как возник Музей войны 1812 года?
— Это долгая история. Решение о создании музея было принято еще 100 лет назад. Тогда в Императорский Российский исторический музей на выставку, посвященную
А что-то поступило уже после 1917 года — например, знаменитая сабля Наполеона, подаренная графу Павлу Шувалову. Сопровождая Наполеона в первую ссылку на Эльбу, этот эмиссар от России предложил императору поменяться мундирами с адъютантом, поскольку реальна была опасность покушения. В благодарность за заботу Наполеон подарил графу саблю, полученную им за Египетский поход. Она и была на выставке 1912 года, затем вернулась к владельцам в имение, а позже исчезла в пожаре Гражданской войны. Около 1929 года некий красный командир принес ее в музей Красной армии, нынешний Центральный музей вооруженных сил, откуда она попала в ГИМ. Так что идея музея войны 1812 года никуда не уходила, она жила в Историческом музее среди его специалистов. Когда был образован оргкомитет по празднованию
— Не будет ли дублирования с Бородинской панорамой?
— Какие-то пересечения неизбежны. Но там главное — живописное полотно, предметный ряд — лишь добавление, а мы на нем строим все. Это портреты, амуниция, оружие, произведения декоративно-прикладного искусства, личные вещи, археологические находки. Кроме того, мы охватываем гораздо больший период истории: от 1801 года до битвы при Ватерлоо (1815). Могу добавить: в свое время готовилась панорама не только Бородино, но и сражения при Березине. К сожалению, она утрачена, за исключением эскизов, гравюр и фотографий, которые полностью хранятся в ГИМе. Мы представим эту неосуществленную панораму на мультимедийных экранах.
— Рядом с вашим музеем на Красной площади — Мавзолей. В последнее время вновь зазвучали призывы вынести оттуда тело Ленина.
— Конечно, мы можем вынести тело, но лучше жить от этого не станем: зарплата не повысится, люди не начнут эффективнее работать. Мне кажется, часто такими заявлениями о себе напоминают люди, которым нечего делать.
— И министр культуры в их числе?!
— Министр высказал эту идею как личное мнение, подав ее оригинально, подведя хорошую базу — сказав, что Мавзолей сам по себе обязательно должен остаться как часть историко-архитектурного комплекса.
— Отчего у нас не прекращаются попытки переписать историю?
— Знаете, есть изумительное произведение, актуальное для нашей страны: «История города Глупова». Там присутствует целый ряд мер, которыми глуповцы решали проблемы: ловля комара лукошком, замешивание толокна в сите, сбрасывание Ивашки с колокольни: Так вот, все попытки переписать историю — это ловля комара лукошком. Ничего полезного они не приносят. Ну, убрали мы Дзержинского, и что дальше? Идея продолжает жить. Как правило, успешные страны не занимаются переписыванием своей истории, а принимают ее как данность. Во Франции могут посетовать, что якобинцы были жестоки, а Робеспьер зря казнил Дантона, но гордятся и якобинцами, и Робеспьером. А мы постоянно пытаемся найти главную причину бед то в Иване Грозном, то в Ленине, то в Сталине, забывая, что все гораздо сложнее.
— Конфликтность общества затронула и музеи. Церковь часто утверждает, что они ее якобы ограбили.
— Конечно, сейчас удобное время для выдвижения таких обвинений. Но был и другой период, когда даже с точки зрения РПЦ музеи или по крайней мере их наиболее принципиальные сотрудники не обвинялись. Ведь сами музеи никого не обкрадывали. Да, работала когда-то в Музеях Московского Кремля спецкомиссия — основа знаменитого Гохрана: вещи, изъятые из церквей и монастырей, из госхранилищ типа Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца, перебирались, переплавлялись, продавались за рубеж. Но напомню: два директора Оружейной палаты, Сергеев и Иванов, в 1920-1930-е годы этому отчаянно противились и в итоге закончили свою жизнь трагически. Благодаря музейным работникам удалось спасти ризницы и иконостасы взорванных кремлевских соборов, ризницу Соловецкого монастыря. Спасали целые монастырские комплексы! Там, где были музеи, шла реставрация, не было мрака запустения, не устраивались фабрики и колонии. У нас сложная страна и сложная история. Нам трудно брать в пример, допустим, Италию, где церковь никогда не подвергалась гонениям, опустошению, взрывам и конфискации имущества. Она традиционно несет то же бремя нагрузок, что и другие общественные институции. А законодательство страны составлено так, что соборы сохраняются как настоящие музеи: там даже нельзя жечь свечи. Честно говоря, мне все равно, кто сохраняет памятник — церковь, музей или частное лицо. Главное, чтобы этот памятник был сохранным и доступным.
— Сколько людей за год приходит в ГИМ?
— После того как Новодевичий монастырь перестал два года назад к нам относиться и был передан церкви — около 850 тысяч человек. В Новодевичий ходило до 250 тысяч. В ГИМе хранится 4,5 млн экспонатов — больше, чем в Эрмитаже. Поэтому для музея хорошей перспективой было бы современное фондохранилище, где он мог бы не только хранить, но и показывать.
— Много споров велось вокруг проекта Национальной портретной галереи, которую вроде бы собирались сделать у вас, но в конце концов вы предпочли музей войны 1812 года.
— Что касается Портретной галереи, мы начали эту работу, организовали трехмесячную выставку, но для более долговременного проекта нужно большое пространство. А инициатор идеи, князь Никита Лобанов-Ростовский, увидев постоянную экспозицию нашего музея, произнес: да вот же она, Национальная портретная галерея! Потому что портрет играет огромную роль в экспозиции ГИМа. Скажу больше — такой уникальной галереи, сочетающей памятники с изображением исторических лиц, нет ни у кого.