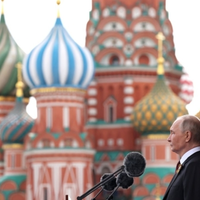Есть известный анекдот о певцах. Дирижер пеняет «звездному» басу: «Ну и идиот же ты!» На что бас возражает: «А голос?» Евгений Нестеренко, недавно ушедший от нас великий бас, являлся лучшим опровержением этой популярной байки: он был одним из умнейших людей, с которыми мне довелось общаться.
Разговаривать с ним было одно удовольствие: можно было обсудить последнюю громкую публикацию из журнала «Иностранная литература», просмаковать какую-нибудь заковыристую строчку Пастернака или восхититься смелостью Шостаковича в его новейшем сатирическом опусе.
При этом Женя (он, уж извините, таковым для меня останется навсегда) вовсе не был человеком чванливым или претенциозным. Да, мог, исполняя трагические опусы Шостаковича и Свиридова, быть предельно серьезным. Но с каким озорством преподносил Нестеренко свиридовского «Финдлея» на стихи Роберта Бёрнса в остроумнейшем переводе Маршака! И в разговоре в углах его губ неизменно пряталась легкая усмешка, что весьма облегчало общение.
Никогда не забуду, как охотно и быстро согласился молодой, высокий, красивый Женя на мое предложение спеть Сальери в камерной одноактной опере Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» (по Пушкину). Дело было в 1969 году. Мы с Юрием Кочневым (ныне худруком Саратовской оперы, а тогда аспирантом Ленинградской консерватории) организовали необычный по тем временам музыкальный коллектив – Экспериментальную студию камерной оперы (ЭСКО).
Все делалось на чистом энтузиазме. Никто – ни оркестранты, ни солисты – не получал ни копейки. А ведь Нестеренко уже блистал на сцене Мариинского (тогда Кировского) театра. Но ему наша идея показалась заманчивой (сейчас такое трудно себе вообразить). Женя даже помог заполучить нужные костюмы и бутафорию – тоже бесплатно. И никакого нытья, всегда с улыбкой.
Нестеренко спел чуть ли не восемьдесят оперных партий. Многие считают величайшим его достижением роль Бориса Годунова, исполненную на лучших сценах мира. С этим трудно спорить, но для меня самым незабываемым созданием Жени стала роль Руслана в постановке Большого театра «Руслан и Людмила».
Дело в том, что этот почитаемый на академическом уровне шедевр Глинки в обиходе испокон веков считался скучной, затянутой оперой. В царские времена слушать ее отправляли провинившихся солдатиков – вместо гауптвахты. Произведение нещадно сокращали, но ничего не помогало. Пока в 1972 году Борис Александрович Покровский (по моему разумению, наш лучший оперный режиссер) не нашел к нему ключ: он в том, что в этой опере, наполненной пушкинской иронией и сочувствием к человеческим слабостям, нет безупречных героев.
Руслан молод, у него задатки будущего вождя, но он еще не очень в себе уверен. Даже не знает наверняка, любит ли Людмилу. Когда Черномор похищает у него невесту – отправляется искать ее скорее по обязанности. И только в процессе этих поисков (сейчас это называют «квестом») он становится подлинным героем.
Это была абсолютно новаторская трактовка оперного Руслана, и Нестеренко она подошла идеально. Можно даже сказать, что роль стала для него автобиографической: он и сам чувствовал себя таким «человеком-в-развитии». Я в то время перебрался в Москву и не пропускал ни одного представления «Руслана и Людмилы», всякий раз с наслаждением наблюдая, как артист совершенствует и усложняет свою партию.
Мы тогда много об этом с ним говорили. Была и такая идея: почему бы Свиридову, любимому композитору Нестеренко, не написать для него оперу – нечто вроде нового «Князя Игоря». Не получилось. Но это уже другая история…
А у меня на память об этих разговорах осталась грампластинка с записью романсов Свиридова в исполнении Нестеренко с его автографом на конверте: «Соломону Волкову – одному из соавторов этих интерпретаций». Этот великий талант был еще и безмерно щедр…