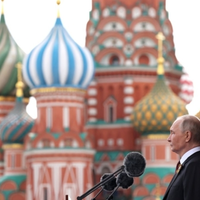На экраны выходит новый фильм Алексея Германа-младшего, снятый прошлой осенью, в разгар пандемии. Тогда из-за наглухо закрытых границ остановились съемки его международного высокобюджетного проекта «Воздух» о летчиках Великой Отечественной. Чтобы не терять время в унылой карантинной отсидке, на свет был извлечен написанный ранее сценарий малобюджетного фильма «Дело», который Герман снял за рекордно короткие 23 дня. А потом поехал с ним на Каннский фестиваль.
Фильм остался в Каннах без приза, но это не отменяет его достоинств, на первый взгляд, не очень броских. Предыдущие ленты Германа («Последний поезд», «Гарпастум», «Бумажный солдат», «Под электрическими облаками») впечатляли агрессивной формой, визуальным напором — порой при смутности сюжета и зашифрованности содержания. С годами режиссер, которому недавно исполнилось 45 лет, похоже, впадает (это путь многих) в «неслыханную простоту», свидетельством чему был уже «Довлатов» — его предыдущий, пока самый успешный в прокате фильм.
В «Деле» нет особых операторских изысков, все действие происходит, по сути, в одной декорации, выстроенной художником, женой режиссера Еленой Окопной. Главным в фильме становится не «картинка» (хотя она по-своему выразительна, напоена сырым осенним воздухом и пронизана каким-то зыбким светом), а объем и движение характеров, звучащее с экрана слово. И это сполна отвечает замыслу режиссера, который накануне каннской премьеры без устали повторял (в том числе в интервью «Труду»), что его новая работа — в первую очередь, поклон великой русской литературе.
И впрямь: по ходу фильма всплывают имена Пушкина и Достоевского. В квартире профессора висит портрет Ахматовой. Главный герой фильма, бунтарь и неврастеник, отдаленно напоминает то ли Чацкого, то ли чеховских интеллигентов. Сам себя в порыве гордыни он сравнивает с Осипом Мандельштамом, бросившим вызов Сталину. Название фильма отсылает к пьесе Сухово-Кобылина «Дело», написанной автором по мотивам облыжного обвинения, жертвой которого он стал. А сама пьеса была пронизана такой ненавистью к царскому чиновничеству, что цензура запретила ее на 20 лет. Так что «родословная» у экранного «Дела» богатая и достойная.
В центре фильма — профессор литературы Давид Гурамович, грузин по отцу, доживающий свой век (ему за 50) где-то в провинции у моря. Он имел смелость (или неосторожность) написать в социальных сетях пост о том, что мэр города украл 5 миллионов рублей при строительстве памятника Петру I. «Ответка» не заставила себя ждать: против «слишком умного» профессора завели сфабрикованное уголовное дело по факту хищения им средств на проведение научной конференции. И тут же посадили под домашний арест — без права пользоваться интернетом и выходить из дома дальше, чем на 100 метров, да и то с электронным браслетом на ноге.
Захламленная книгами, альбомами, рукописями профессорская холостяцкая квартира; неуютный, плохо освещенный подъезд; пятачок двора возле когда-то роскошного, а теперь обшарпанного двухэтажного дома, утопающего среди высоких сосен; ржавый остов памятника Ленину; неизменный железный забор; кусочек северного моря, которое можно увидеть с балкона дома, — вот и все видимое на экране пространство фильма. Но в какой-то момент ты понимаешь, что этот стоящий на отшибе особняк — образ провинциальной России. Красивой, но запущенной. Богатой, но ободранной. Зависшей между ржавым прошлым и неясным будущим.
К Давиду Гурамовичу наведываются ходоки. Переживающая за него мать (Роза Хайруллина). Циничный следователь (Александр Паль), читавший Оруэлла, но исправно служащий системе. Бывшая жена (Анастасия Мельникова), живущая теперь не с рохлей-интеллигентом, а с «деловым человеком», пусть и трусливым. Соседка-врач (Светлана Ходченкова), приглядывающая за стремительно ухудшающимся здоровьем профессора. Слесарь, починяющий бесконечные протечки воды в доме. Студенты Гурамыча, не отрекшиеся от своего педагога, в отличие от коллег и ректора вуза, который уже издал приказ об увольнении своего лучшего специалиста по Серебряному веку.
Практически все они с той или иной долей симпатии относятся к профессору, верят в его невиновность. Более того, весь город знает, что настоящий вор — мэр, но сделать ничего не могут. Или не хотят. Или боятся. Мать уговаривает сына, что воровали при Петре I, Екатерине II, при коммунистах, будут красть и дальше. Беременная врач боится потерять работу, отказываясь в какой-то момент делать больному профессору спасительные уколы. Студенты опасаются громко выразить солидарность, поскольку одного из них, вышедшего с одиночным пикетом, уже отчислили из вуза...
Тем временем неизвестные громилы вдребезги разносят квартиру профессора. Уголовный тип на лестничной площадке приставляет ему нож к горлу, не успевая прирезать из-за крика соседки. Профессора не пускают навестить больную мать в больнице. Нанятые мэром «титушки» за жалкую мзду кричат под окнами дома заученный слоган: «Профессор вор!». И обвиняют его в том, что он украл деньги у самого Пушкина, написавшего, по их мнению, «Преступление и наказание». У Давида Гурамовича от всего этого шалит сердце, болит спина, отказывают ноги. Со всех сторон ему нашептывают: признай вину, покайся, и дело кончится условным сроком, а жизнь вернется в привычное русло.
Но этот тщедушный, уже физически раздавленный человек (прекрасная, глубокая работа Мераба Нинидзе) неожиданно для многих, а, может быть, и для самого себя, проявляет железную волю. С непостижимым упорством стоика, с отчаянием Дон Кихота областного масштаба он стоит на своем: я не виновен, воровать нельзя никому, ни при каких обстоятельствах, ни при каких режимах. И вместе с поверившим в него адвокатом (Анна Михалкова) до конца бьется за свое честное имя, за свои жизненные принципы, за торжество правды. Всем бы так. Но можно ли требовать от людей, у которых есть семьи, жизненные планы, нормальное желание выстроить профессиональную карьеру, подобного стоицизма? «Дело» оставляет этот вопрос открытым для дискуссий и различных толкований.
Алексей Герман всячески отрицает, что его фильм «экранизирует» реальные уголовные дела Кирилла Серебренникова или Алексея Навального. Говорит, что сценарий был написан несколько лет назад, задолго до известных событий. Но тогда надо восхититься даром предвидения режиссера, который угадал в своем фильме многие обстоятельства и даже детали из громких московских уголовных процессов последних лет. И в показанном на экране частном случае, в ЧП городского масштаба сумел разглядеть некую общую и весьма тревожную тенденцию.
В итоге новая работа режиссера оказалась первым после давних уже фильмов «Дурак» Юрия Быкова и «Левиафан» Андрея Звягинцева не только значимым художественным, но и социальным, политическим высказыванием. Согретым при этом какой-то сердечной, интимной интонацией, нравственным светом. Наверное, это, а также финал фильма, неожиданно и, увы, слегка облегченно развязавший тугой узел тяжбы между стоиком-профессором и вороватым мэром, устроило чиновников нашего министерства культуры, которые не стали чинить препятствий выходу этого острого фильма на наши экраны.