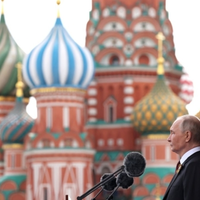25 июня исполняется 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла, чей изданный в конце 1940-х опус магнум с коротким названием «1984» уже 10 лет не покидает вершин рейтинга «Сто главных книг всех времен и народов». Впрочем, чтобы удостовериться в востребованности этой и других вещей знаменитого британца, достаточно беглого взгляда на улицы больших городов, на майки и сумки снующего там люда и, конечно, на витрины книжных магазинов со слоганами: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила», «Дважды два — пять». Что же напророчил нам их автор — писатель с мировым именем и неоднозначной литературной репутацией?
Заядлый сноб и эстет Владимир Набоков считал «1984» (а заодно и «Скотный двор») журналистской дребеденью, а самого Оруэлла — бледным трафаретным художником, преуспевшим разве что на ниве публицистики. Главной антиутопией ХХ века, по версии профессора русской и мировой литературы в престижном Корнелле, стоило бы считать роман «Мы» Евгения Замятина, а лучшей книгой Оруэлла — «Памяти Каталонии», по сути расширенный очерк, посвященный его испанскому опыту и известный у нас преимущественно знатокам.
Однако ни Замятин, ни Набоков, ни Хаксли, ни Кафка не создали такого грандиозного общественного мифа, как лобовая, резкая, впечатляющая до шока книга «1984».
Недолюбливавший изворотливых интеллектуалов, бросавший вызов самодовольным хозяевам жизни — политикам и олигархам, одно время даже исповедовавший коммунистическую идею, Оруэлл верил в простого человека, чье видение мира якобы вернее любого другого. Он и сам, как отмечают биографы, был донельзя простым — «любил работать руками, сажал цветы, вытачивал на маленьком токарном станке игрушки для приемного сына, собирал пивные кружки».
Накручивая футуристический мрак, Оруэлл не ставил диагнозов — он лишь хотел вразумить, но почему-то именно его книга о беспрестанно воюющей Океании с ее новоязом, униформами-робами, Большим братом и рыхловатым, рефлексирующим, а в конце романа сломленным героем закрепилась в сознании читателя в качестве эталонной модели глобального тоталитаризма, чей призрак прописался в самом недалеком будущем.
По Оруэллу можно гадать, почти не рискуя ошибиться. Если в 1984-м мир «выдохнул» — глобальной катастрофы вроде бы не случилось, то в 2013-м, в год 110-летия писателя, 89% британцев, опрошенных газетой Guardian на предмет воплощения оруэлловских пророчеств, ответили, что все решительно сбылось. И упомянули «огромные объемы государственной слежки», «криминализацию свободного высказывания», «увеличение разрыва между богатыми и бедными», «отсутствие реальной демократии и свертывание гражданских свобод».
Речь шла не только о Великобритании или, скажем, о сталинском СССР. В числе пугающих общемировых «полезностей», предсказанных Оруэллом, — искусственный интеллект и нейросети, возникшие в романе в образе специального калейдоскопа-«версификатора». Задачей хитроумной машины была генерация незамысловатых развлечений для «пролов», то есть масс: устройство выпускало «низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии», сочиняло «забористые пятицентовые повестушки», снимало скабрезные фильмы и слагало чувствительные песенки.
Оруэлл предсказал телеэкраны, умеющие распознавать находящихся перед ними людей и выражения их лиц, с изрядной точностью вообразил будущие огромные плавающие военные базы-крепости, а в «двоемыслии» метко угадал ставшее вскоре массовым переписывание истории.
Меньше всего Оруэлл хотел, чтобы его «1984» принимали за политический памфлет, направленный против того или иного режима. За пару месяцев до смерти успел сказать: «Мой роман не представляет собой нападок на социализм или Лейбористскую партию Великобритании, но нечто подобное может произойти. Тоталитаризм, если против него не воевать, может победить в любом месте».
— Его называли «собакой с костью наблюдений». Смешно, да? — замечает литературовед, автор книги «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» Вячеслав Недошивин. — Но один из биографов признал: Оруэлл — это «лакмусовая бумага этики». А его друг и биограф Ричард Рис сказал: «Он человек с беспокойной совестью». И добавил: «Подобно железной стружке, притягиваемой магнитом, ум Оруэлла всегда ориентировался на ту простую истину, что в мире царит несправедливость и что большинство попыток перестроить мир отдает лицемерием». Все его творчество детонировало не от умопомрачительных «лав стори», забавных «интриг» или «исповедей» разочарованных — оно взрывалось от рабства, дышащего угаром, попранной свободы и неслышных миру стенаний узников тюрем. Ради этого он в оглушительном, считайте, одиночестве очищал «идею социализма», равно как мифологический Геракл чистил скотный двор царя Элиды Авгия. И ради этого последний роман его стал первым грозным предупреждением человечеству о всех современных и грядущих на Земле тираниях:
«Худой, болезненный, долговязый и неуклюжий человек с тонкими усиками над верхней губой и запавшими, как в пещеры, острыми глазами» (одно из метких определений, данных Недошивиным), Оруэлл обладал смелостью противостоять хоть бы и всему миру. Он не боялся переходить в лагерь побежденных, считал, что «первой беглянкой из лагерей любых победителей является Справедливость».
Знал ли Оруэлл рецепты счастливой жизни? В том-то и дело, что нет. Именно потому в его знаменитой антиутопии с первых строк обращает на себя внимание прием «недостоверного рассказчика»: Уинстон Смит толком ничего не решает и не знает наверняка — плывет по волнам обстоятельств. Дистанцированный от окружающего макабра, такой тип героя нужен и для того, чтобы избежать любой политической атрибуции. Социалисты, лейбористы, консерваторы, националисты — никто из них для Оруэлла не прав. Конечно, он не был апологетом социал-демократии, иначе не описал бы столь иронично идею равенства в своем предыдущем романе «Скотный двор», где одни животные почему-то «равнее» других, и по рангам их расставляет анонимная бюрократическая власть.
«1984» — квинтэссенция идейной машинерии, выродившейся в царство демагогии, популизма, насилия, неизбежного вкупе с грубыми (читай: эффективными) методами управления «стадом», для которого Большой брат, существующий лишь на теле-экранах и портретах, — симулякр, обманка массовой оптики. Кто прав, кто счастлив? Пожалуй, одна только широкозадая баба, соседка Уинстона, которая изо дня в день развешивает на дворе белье и что-то безмятежно напевает.