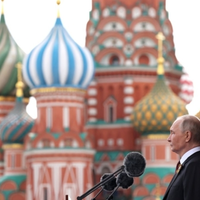Год назад не стало писателя, эссеиста, кинодраматурга, бессменного председателя русского ПЕН-центра Андрея Битова. В Мемориальной квартире Пушкина на Арбате прошел вечер памяти, а на книжной выставке Non/fiction презентовали сборник «Портрет поздней империи. Андрей Битов», в который вошли эссе-воспоминания его друзей и собратьев по перу.
Под его дудку «плясал весь литературный мир Европы», знакомство с ним означало «принадлежность к высшим творческим кругам», и, наконец, «Битов пленял не только интеллигентных читательниц и читателей в России и вне ее, но и зверей. И не простых — кошек. А это нелегко».
Все это фразы из воспоминаний об Андрее Георгиевиче. Так случилось, что и автор этой заметки оказалась в числе редакторов сборника. Могу засвидетельствовать: предложение написать или рассказать под запись о Битове встречалось с неизбывным энтузиазмом. Известные прозаики, поэты, кинорежиссеры, заслуженные артисты (сегодня практически все в статусе живых классиков) откликались сразу: Вадим Абдрашитов, Борис Мессерер, Резо Габриадзе, Юрий Рост, Валерий Попов, Александр Ширвиндт, Виктор Ерофеев, Юрий Кублановский, Вениамин Смехов, Олег Хлебников, недавно ушедший Лев Аннинский...
Почти все воспоминания — неформальные, но с внушительной дистанции почитания, без толики фамильярности, казалось бы, вполне уместной в ближнем кругу. Будто бы свойский и одновременно закрытый, изыс-канно-ленинградский кумир нет-нет да и одарит тяжелым взглядом из-под выпуклых очков. «Родившийся в год Быка, он был свиреп, его боялись, и мало кто рисковал встать на его пути», — замечает в своем блистательном эссе писатель Валерий Попов. И добавляет: «Не припомню такого».
Прозаик с мировым именем, прославившийся «Пушкинским домом» и выбравший Александра Сергеевича в качестве литературного и этического эталона, был беспрекословным авторитетом вне суетных примет. Ни ликующих стадионов, собранных поэтами-шестидесятниками, ни капели оттепели, ни ржавчины застоя в качестве фона.
Избравший стиль «восхитительного своеволия, свободного скитальчества по городам и текстам», Битов поражал неожиданностью и точностью реплик, кстати, не всегда понятных с первого раза. Например: «Это нам только кажется, что мы про Пушкина знаем все, на самом деле мы не знаем даже размера его ботинок». Или: «Как вы относитесь к Богу?» — «Как Он ко мне». — «А как Бог относится к вам?» — «Как я к Нему».
А вот диалог страдающего аэрофобией Дмитрия Быкова с потягивающим вискарик Битовым в издающем странные звуки самолете. «Андрей Георгиевич, что это?» — «Падает, наверное». — «Вот я понимаю, конечно, что душа бессмертна, но куда денется мое «я»?» — «Твое «я» не более чем мозоль. Мозоль от трения души о внешний мир». Почему-то именно эта мысль собеседника успокоила...
«Битова по умолчанию принимали за мудреца, но ему мудрость как таковая была скучна, что ли, — вспоминает поэт Виктор Куллэ. — Живое и непосредственное удовольствие Андрей Георгиевич получал не от безукоризненно выверенной цепочки умозаключений, а от способности глянуть на нечто до неприличия общепринятое с небывалой доселе точки зрения. Не секрет же, что по большей части мы обитаем в мире продуктов чужой умственной деятельности, в мире клише, эдаких культурных чучелок, подменяющих личностную картину мироздания. Битов же неустанно искал, был то ли геологом, то ли кладоискателем, а порой даже сапером...»
О том же говорит и режиссер Вадим Абдрашитов: «Битов — человек языковой, улавливающий вибрацию магмы слова. Уровень художественности, качество его литературы таковы, что нам, кинематографистам, с нашими грубыми руками, лучше держаться от него подальше. Нельзя экранизировать Бунина, Чехова, Платонова. И, конечно, Битова».