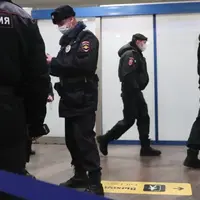Для того чтобы живописать историю, необязательно придумывать захватывающий сюжет и нанизывать на него наши представления о давно прошедших событиях. Иногда достаточно листка с несколькими торопливыми строчками, чтобы эпоха заговорила.
А.В. Сульдин «Письма погибших героев»
В основу книги легли письма не вернувшихся с войны. В июне 1941-го сержант-пограничник Владимир Смирнов хрипит в предсмертной записке: «Погибаем. Скажите маме. Сдаваться не будем». А в мае 1945-го командир танковой роты Александр Долгов в последнем письме объясняет матери очевидные для себя вещи: «Мама, ты пишешь, чтобы я был осторожен. Это невозможно. А с кого же будут брать пример солдаты?» Его танк сгорел в Бранденбурге в нескольких шагах от Победы. И звание Героя ему присвоено посмертно:
Все они были молоды. Поэт-фронтовик Николай Майоров о своем поколении сказал: «Мы были высоки, русоволосы. / Вы в книгах прочитаете, как миф, / О людях, что ушли, не долюбив, / Не докурив последней папиросы». Сам он погиб в 42-м на Смоленщине. Стараясь заглянуть вперед, написал так будто в воду глядел: «Пройдут века, и вам солгут портреты, / Где нашей жизни ход изображен». Вот где нет лжи и пафоса, так в этих долетающих до нас письмах. Есть совсем коротенькие, на клочке бумаги: «Живые! Пойте о нас! Мишка». И целые послания, как у автора повести «Танкер «Дербент» Юрия Крымова, ушедшего на фронт добровольцем.
Под этой же обложкой — живые свидетельства очевидцев, словно специально отправленные нам сегодняшним. Вот жители Львова рассказывают о зверствах фашистов и их подручных из местных. Полезно было бы прочитать тем гражданам Незалежной, что теперь выходят чествовать фашистских прихвостней. А что знают жители нынешнего литовского Симнаса о Володе Смирнове, принявшем свой первый и последний бой у стен их городка? В 1967-м их деды помогли матери героя разыскать его могилу, где в солдатском медальоне и нашли ту самую предсмертную записку. А сегодня: Сохранилась ли сама могила?
Макс Хейстингс «Первая мировая война. Катастрофа 1914 года»
А вот совсем другая война, уже, кажется, окончательно канувшая в Лету. Но это все до той поры, пока не заговорят свидетели событий более чем вековой давности. Историк-писатель сэр Макс Хейстингс не пытается в своих оценках сохранить хваленую британскую политкорректность по отношению к политикам и генералам, втянувшим мир в катастрофу Первой мировой. Хотя куда красноречивее документы и свидетельства. Автор разворачивает перед читателем цепь роковых событий, предоставляя слово государственным мужам, дипломатам, военачальникам и обыкновенным обывателям, — и вот уже, кажется, мы сами ощущаем неумолимость краха прежней жизни, чувствуем безысходность противостояния, когда десятки миллионов людей начинают смотреть на мир только в прорезь прицела:
Сто лет прошло, но сумело ли человечество извлечь уроки из той катастрофы? На этот вопрос, увы, трудно ответить утвердительно.
Шенг Схейен «Авангардисты: Русская революция в искусстве. 1917-1935»
Бывший атташе по культуре посольства Нидерландов в Москве не претендует на новое слово в искусствоведческом осмыслении русского авангарда. Ему, слависту, опубликовавшему письма Дягилева и подробнейшее его жизнеописание, интересна скорее жизненная драма Малевича, Татлина, Кандинского и Шагала, неразрывно связанная с чередой трагических событий, называемых «русской революцией». Когда революционеры от искусства превратились вдруг в управленцев, стали винтиками машины. Повествование завершается 1935 годом — смертью Малевича и победой соцреализма, единственно разрешенного в СССР творческого направления.
Для автора классики авангарда — талантливые сумасброды, воспринявшие революцию «как возможность пересдачи карт в культурном мире». Но с государством-шулером лучше бы вообще не играть. Режиссер Товстоногов, посетивший мастерскую Татлина в начале 50-х, ошалел от увиденного, на что полузабытый авангардист сказал ему: «Без странности не может быть ничего в искусстве, голубчик». Таким же недоумевающим «голубчиком» предстает и автор, изображая своих героев.