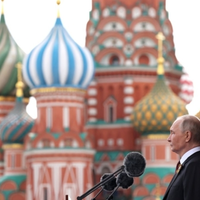Зимние фотовыставки в Государственном институте искусствознания — это всегда увлекательный и драматичный рассказ о памятниках архитектуры, большинство из которых нуждается в защите. Но смысл этих экспозиций всегда шире. Например, нынешняя, открывшаяся в минувший уикенд, погрузила в историю не только зодчества, но и... конного дела в России. Заодно показав, как пренебрежительно мы относимся к собственным национальным традициям, накопленным в этом промысле, который многие считают искусством.
Заказ на исследование поступил от Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (ФГБУК в структуре Министерства культуры РФ). Поводом послужила передача Агентству грандиозного комплекса императорских конюшен в Петергофе. В ведомстве задались вопросом — насколько реально и сами памятники сохранить, и бюджетную пользу из их эксплуатации извлечь.
В ГИИ за проект взялся отдел Свода памятников — тот, что уже лет двадцать выпускает каталоги исторических сооружений страны. Выяснилось, что таких хозяйств сохранилось около сотни, обследовать за 2017 год удалось примерно две трети из них. Большая часть, по свидетельству заведующего отделом Алексея Грица, продолжает функционировать по прямому назначению, однако состояние сооружений чаще всего посредственное, а то и неудовлетворительное, в ряде же случаев просто ужасающее.
Притом есть объекты поистине выдающиеся. Например, завод Воейковых в селе Лаврово мордовского района Пензенской области с его неоклассической архитектурой начала ХХ века. Или Казенный конный завод в Гавриловом Посаде Ивановской области, выдержанный в стиле классицизма (1776-1787 годы). Или масштабный ампирный комплекс завода в селе ХреновОе Бобровского района Воронежской области, основанного конезаводчиком графом Александром Григорьевичем Орловым-Чесменским. Тем самым, в чью честь названа знаменитая русская порода рысаков — орловская.
Завод в ХреновОм находится в частном владении и относительно благополучен — здесь не только содержат и разводят лошадей, но поддерживают разнообразную спортивную и культурную деятельность. Имеется богатый музей, мемориальное кладбище коней-рекордсменов.
К сожалению, не всюду дело обстоит так. Например, когда глядишь на то, как сыплется штукатурка с ампирных фасадов Казенного конного завода в городе ПочинкИ Нижегородской области, становится тревожно и за людей, и за лошадей.
Смешанные чувства испытываешь от видов конного завода усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского района Псковской области. Захватывает дух от ажурной красоты деревянной конструкции обширного манежа, сооруженной в начале ХХ века и до сих пор прекрасно несущей свою службу. Но не менее масштабный барочный дом самих хозяев усадьбы, восходящий ко второй половине XVIIIвека, выглядит плачевно.
.jpg)
Главный дом усадьбы Строгановых в селе Волышово Порховского района Псковской области. 2-я половина XVIII века. Фото Алексея Яковлева
Усадьба Прилепы в бывшей Тульской губернии в предреволюционные годы принадлежала выдающемуся энтузиасту конного дела Якову Бутовичу, собравшему уникальную коллекцию живописных портретов лошадей. После революции картины забрали в Москву, в Академию имени Тимирязева. В Прилепах осталась пара музейных комнат. Действует и контора конезавода, хотя как можно работать в столь неухоженном здании, не очень понятно.
А ведь спасение и памятника, и самого хозяйства вполне возможно. Сейчас они оказались в черте города Тулы, в хорошей транспортной доступности. Местным властям и бизнесу карты в руки. Но пока признаков повышенного интереса к объекту нет.
.jpg)
Интерьер манежа Конного завода Строгановых в Волышово, 1910 год. Фото Алексея Яковлева
О чем говорить, если в полуруинированном состоянии находится, например, дворец графа Владимира Орлова (младшего брата упомянутого Александра Орлова)в имении Отрада-Семеновское под Каширой — выдающийся памятник XVIII века, ныне принадлежащий более чем влиятельному хозяину: здесь расположен санаторий ФСБ. И уж если там разор, токак рассчитывать на сохранение, допустим, усадьбы Надеждино «бриллиантового князя» Александра Борисовича Куракина, которая не только удаленней от столицы (Сердобский район Пензенской области), но исследователь Екатерина Шорбан даже затруднилась с ответом на вопрос, кому сейчас принадлежит этот потрясающий комплекс 1790-х годов — громадный дворец в стиле классицизма, монументальный храм-ротондана главной сельской площади и другие сооружения.
Здесь, как, наверное, заметил читатель, мы уже вышли за пределы собственно «конной» темы. Хотя напомним — это связанный с ней заказ позволил сделать круг экспедиций 2017 года более широким, чем обычно в последние годы. Он включил в себя готическую церковь Успения Богородицы в Бороздино Новомосковского района Тульской области, готическую же усадьбу Татищевых в деревне Вешаловка (Знаменка) Липецкой области, стоящие без крыши дворцы Прончищевых-Барятинских-Двигубских в Зендиково Каширского района Московской области и В. Г. Новосильцева в Есуково Ясногорского района Тульской области, рушащуюся церковь св. Николая Чудотворца в селе Руднево (ныне город Тула), нуждающееся как минимум в ремонте «модерновое» (1913 год) здание Шамоновской мельницы в Липецке...
Но даже имея столь масштабное госзадание, исследователи, как стало понятно из их рассказов, отправляются в экспедиции в значительной мере за свой счет. Институт искусствознания может оплатить лишь суточные, а транспорт, ночлег — это, как сказала Екатерина Шорбан, «при помощи наших друзей».
Отсыл к знаменитому высказыванию президента Владимира Путина насчет «скреп» стал уже настолько общим местом, что на сознание массы чиновников не действует. Может, ориентиром станет другое, более свежее высказывание — о растущей роли волонтеров в национально важных делах? Хотя кто-то считает его эвфемизмом выражения «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». А кто-то — мудрой и, главное, экономной политикой. Ведь волонтерам особенно много не надо. Им бы не мешали. Уж на это-то наше государство способно?