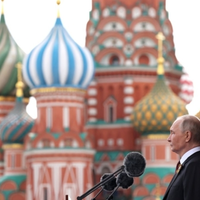На протяжении 90-х годов наши отношения с наиболее влиятельными мировыми игроками - странами Запада - развивались строго по нисходящей линии. В 1991-1994 годах мы переживали романтический период разговоров о "стратегическом партнерстве", когда почему-то некоторым нашим лидерам казалось, будто вот-вот Россия станет как Запад и частью Запада. Эйфория закончилась с решением Вашингтона начать расширение НАТО. Наступил более практичный этап "реалистического партнерства", продолжавшийся до кириенковского дефолта в августе 1998 г., после которого на Западе заговорили об усталости от российских проблем и "стратегическом терпении". Летом прошлого года оно сменилось не стратегическим нетерпением, когда на свет Божий были вытащены сюжеты, связанные с российской коррупцией, "семьей" Ельцина, министерской чехардой и Чечней, после чего отношения по линии Россия - Запад приблизились к точке замерзания.
Скольжение отношений по наклонной плоскости объяснялось множеством причин, из которых в качестве главных я бы выделил две. Во-первых, нарастала асимметрия экономических и политических возможностей стремительно слабевшей России и набиравшего силу Запада. В современном мире, где не столько государства занимаются геополитикой, сколько транснациональные корпорации вместе с правительствами занимаются геоэкономикой, нашей стране, которая в прошлом году уступала Америке по объемам ВВП в 45 раз, трудно было рассчитывать на учет своих интересов. Во-вторых, в начале 90-х налицо были слишком высокие ожидания. Мы рассчитывали на финансовую или хотя бы моральную помощь. Запад полагал, что Россия может быстро и легко трансформироваться в цивилизованную демократию западного типа. Ни того, ни другого не произошло, что привело к взаимному разочарованию и взаимным подозрениям в самых худших намерениях.
В итоге к концу прошлого года заговорили если не о возобновлении "холодной войны", то о "холодном мире".
Однако в последнее время, похоже, ситуация стала меняться к лучшему. По-видимому, отставка непредсказуемого Бориса Ельцина вызвала вздох облегчения не только на просторах нашей необъятной Родины, но и за ее пределами. Зарубежная пресса еще волнуется по поводу Чечни и коррупции, но реальные западные политики уже вновь зачастили в Москву. Асимметрия возможностей России и Запада сохраняется, но завышенных ожиданий уже нет. И мы и они стали большими прагматиками не обремененными романтическими иллюзиями. Чувствуется, что со стороны многих западных руководителей есть стремление вновь выстраивать отношения едва ли не "с чистого листа". И здесь очень многое будет зависеть от того, ответит ли Россия взаимностью.
Сейчас в принципе возможны несколько вариантов российской внешней политики.
Можно попытаться реанимировать линию Андрея Козырева на следование в кильватере западного сообщества в надежде войти в него составной частью. Линия, на мой взгляд, абсолютно бесперспективная, потому что в основные структуры Запада (НАТО, Европейский союз) нас никто принимать в ближайшее десятилетие не собирается, и Россия будет обречена на изначально второстепенную и пассивную роль.
Можно вслед за нашими леворадикалами и жириновцами объявить Запад источником всех бед России, дружить со странами-изгоями (Ирак, Ливия, Северная Корея) и попытаться заработать политический капитал на раздувании антиамериканизма. Подход еще менее продуктивный, поскольку даже попытка вновь противопоставить себя остальному миру добьют российскую экономику, а с ней и страну, превратив ее самое в изгоя.
Можно последовать за проповедниками изоляционизма, настаивающими на паузе в активной международной деятельности и сосредоточении на внутренних делах и развитии на собственной основе. Путь возможный, но обрекающий Россию на консервацию отставания, поскольку современный мир не знает ни одного случая "экономического чуда" в стране, которая жила бы в условиях самоизоляции.
Наконец мы можем (на мой взгляд - должны) осознать, что при всей специфичности и самобытности России нам удастся совершить прорыв в XXI век только в том случае, если, не забывая о собственных национальных интересах, удастся интегрироваться в систему глобальной экономики. В этой системе именно сейчас идет, может быть, окончательное разделение на передовые государства, которые будут выполнять во всемирном организме функции "мозга", и все остальные, которым уготована роль других "частей тела" (хотят они того или нет). А место России в стремительно идущих процессах глобализации будет зависеть от того, удастся ли нам выстроить отношения с наиболее развитыми странами на конструктивной основе, что позволит привлекать крупные объемы инвестиций, преодолеть очевидное техническое отставание, не выпасть из общего информационного пространства.
Нам не надо стремиться в НАТО - не реалистично и не нужно. Но добиться качественного улучшения отношений с Западом - и возможно, и необходимо.
Новости

Завтра - выборы президента. Сегодня о них - ни слова. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем российской внешней политики. Эти проблемы на фоне избирательной кампании отошли на второй план, а зря. Известно, что политика - вопрос выживания в следующую пят
Все больше людей предпочитают жить одни - без супругов, без детей, без родни

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...
80 лет назад Советская армия пошла на штурм столицы прусского логова

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....
80 лет назад состоялась историческая встреча на Эльбе

1719 В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 1792 Установленное в Париже доктором Жозефом Гильотеном устройство выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику Николя Жаку Пеллетье....
Хороших решений проблемы бродячих собак пока не найдено

Всего месяц радовала благовещенских жителей и гостей города лебединая пара, выпущенная биологами в Ивановское озеро. Потом белоснежную лебедушку растерзали бродячие собаки, и вдовец еще долго рассекал водную гладь в поисках...
Первые иски к кикшеринговым компаниям появились сразу в нескольких районных судах Петербурга

Это свершилось под напором возмущенных граждан, ставших жертвами на тротуарах и пешеходных переходах. В сентябре 2024-го на Татьяну наехал электросамокат с несовершеннолетним подростком за рулем. Жертва ДТП получила...
В Калининграде получили первую партию черной икры

Умный дрон вернется В Новосибирском государственном университете создали беспилотный летательный аппарат, способный доставлять грузы в труднодоступные районы. На испытаниях дрон успешно перелетел Обское водохранилище и доставил...
Выведена формула: чем выше каблуки, тем больше хромает экономика

Оказывается, состояние экономики можно измерять не только скучными цифрами, отражающими уровень инфляции, ВВП и курс доллара. Найдены показатели позабавнее и поточнее. Такие, например, как индексы женских юбок и мужских галстуков —...
Может, государству стоит обратить внимание на проблемы миграции?

События прошлой недели вновь ставят вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. В минувший понедельник, 14 апреля, СМИ сообщили, что кладовщик из «Яндекс Лавки» и повар из ООО «Урюк» были...
Командование противника держало против российской армии только две бригады территориальной обороны

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) повторило ошибку, допущенную российскими генералами в августе 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Подоляка. «Фактически военное командование ВСУ здесь...
Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Недавно был обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. В лидерах — Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Ленинградская, Калининградская, Ростовская области и Краснодарский...
В одном из дворов Архангельска появился механизированный дворник

Непьющий дворник, причем из местных Архангельский инженер Денис Коробицын решил вопрос уборки снега возле своего многоквартирного дома. Умелец изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машину, которая за полчаса очистила двор от сугробов....
У россиян в массе безэмоциональные «покерные лица»

На занятиях по актерскому мастерству люди от 18 до 65 лет включительно пытаются изобразить эмоции на своем лице. Упражнение называется «Вам письмо». «Актер» вытягивает случайное послание и,...
В Оренбургском заповеднике зацвели тюльпаны Шренка

Цветет символ весны В Оренбургском заповеднике распустились тюльпаны Шренка. Эти желтые цветы на Южном Урале считаются символом весны. Ботаники напоминают, что посетители заповедника могут любоваться тюльпанами, а вот рвать категорически...
36-летняя екатеринбурженка родила тринадцатого ребенка

Счастливая чертова дюжина На Урале случилось редкое по нынешним временам событие. Жительница екатеринбургского района Уралмаш благополучно разрешилась от бремени тринадцатым ребенком. Как сообщили акушеры горбольницы № 14,...

Это поселок заняли подразделения группировки войск «Запад»

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Это поселок, который...
Противник понес их за минувшие сутки в зонах ответственности группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр»

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили за минувшие сутки без малого 800 украинских военнослужащих. Об этом сообщает в социальной...