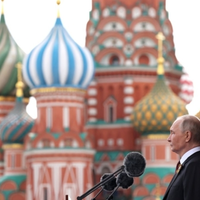Отношение российского общественного мнения к Китаю характеризует удивительное и труднообъяснимое сочетание дружественных чувств, пренебрежительности, снисходительности, опасений (особенно в связи с иммиграцией) и незаинтересованности. А в политических кругах бытует огромное количество стереотипов, мифов, имеющих минимальное отношение к действительности. Левые считают, будто Китай (часто - вместе с Индией) спит и видит, чтобы Россия повела эти страны на борьбу с американским гегемонизмом в составе могучей антизападной коалиции. Для них КНР - также живое доказательство возможности обеспечивать экономическое развитие, не поступаясь принципами марксизма-ленинизма. Правые Китай как "оплот коммунизма" недолюбливают и игнорируют, считая, что от него все равно ничего не зависит (проблемы Востока решаются на Западе), и вся надежда на новое поколение лидеров, которые приведут Китай в семью демократических наций. В итоге и левые, и правые пребывают в совершенно иллюзорном мире.
Альянс с Китаем (плюс с Индией) на антизападной основе и под нашим лидерством немыслим в силу ряда причин. Во-первых, Китай, равно как и Индия, вовсе не собирается конфликтовать с Западом. Да, Пекин выступает за многополярный мир, против гегемонизма и односторонних американских силовых действий. Да, он ощущает "окружение" со стороны Соединенных Штатов, которые в последнее время резко активизировали контакты с Индией и Пакистаном, обозначили военное присутствие в Средней Азии. Но тем сильнее стремление Китая обеспечить мирные и взаимовыгодные отношения с США. Это на сегодня - главный внешнеполитический приоритет Пекина. Даже срок съезда КПК был изменен, чтобы не помешать встрече Цзян Цзэминя с Джорджем Бушем-младшим. Соединенные Штаты - главный партнер Китая по объемам торговли, тогда как Россия - только восьмой.
Во-вторых, никто не нуждается в нашем лидерстве. И Китай, и Индия уже давно сильнее России экономически, а по некоторым параметрам - и политически. В любом "восточном альянсе" мы оказались бы младшим, ведомым партнером, а не лидером. В-третьих, китайцы воспринимают нас как часть того самого Запада, с которым наши левые и националисты призывают бороться, и это восприятие только усилилось после налаживания отношений России с Европейским союзом и НАТО. В-четвертых, союз одновременно и с Китаем, и с Индией вряд ли возможен, поскольку между этими двумя странами сохраняются напряженные отношения.
Быстрый экономический рост Китая является вовсе не подтверждением правильности идей классиков марксизма-ленинизма, настаивавших на искоренении товарно-денежных отношений, а, напротив, результатом активного внедрения чисто капиталистических принципов. Да, компартия сохраняет монопольную роль, что позволяет избегать серьезных политических катаклизмов. Но по степени внедрения рыночных институтов, привлечения иностранных инвестиций, по мизерности социальных программ Китай экономически во много раз более либеральная страна, чем даже современная Россия. И как бы классики марксизма восприняли идею приема в компартию буржуазии, о чем было решено на XVI съезде КПК?
Неправота левых не означает правоту правых. Проигнорировать Китай не получится. Это - единственная великая страна, с которой у нас имеется общая граница длиной 4300 км. КНР, быстро поднимаясь, уже в четыре раза превосходит нас по размерам ВВП, и ее рост способен решающим образом повлиять на характер самой России - от состава населения и госустройства до геополитических ориентаций и экономического положения. А без военно-технического сотрудничества с Китаем, как подтвердил недавно министр обороны Сергей Иванов, останется без денег и тихо загнется наш ВПК.
И для того чтобы эти отношения развивать, не стоит ждать пришествия китайской демократии, так как ее можно и не дождаться. Смена руководства КПК и перспектива прихода к власти "четвертого поколения" лидеров (после Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя) не обязательно означают революционные перемены в политике. Китайская поговорка гласит, что находиться у власти - ехать на спине у тигра: но если слезешь - может съесть. Цзян Цзэминь, даже отказавшись от всех или большинства своих формальных постов, по-прежнему, вероятно, сохранит решающее влияние в стране. Напомню, Дэн Сяопин в последние годы жизни руководил с поста председателя Военного Совета при ЦК КПК, а потом и вообще без какой-либо должности.
"Четвертое поколение" во главе с новым молодым (59 лет) генеральным секретарем Ху Цзиньтао, похоже, не более либерально, чем третье. И не факт, что именно те люди, которых сегодня называют в качестве следующих руководителей Китая, реально и надолго ими станут. И Мао, и Дэн по два раза меняли ими же выдвинутых преемников. Лю Шаоци - первый официальный наследник Мао Цзэдуна - был изгнан как ревизионист в годы "культурной революции". Следующий - Линь Бяо - был обвинен в подготовке военного переворота и погиб в авиакатастрофе, направляясь, вероятно, в СССР. И только перед смертью Мао оставил записку, согласно которой у руля встал Хуа Гофэн. А после того, как тот пал жертвой наступления "старой гвардии" Дэн Сяопина, генсеками побывали и Ху Яобан, отстраненный в 1987 году за покровительство "буржуазной либерализации"; и Чжао Цзыян, на которого была возложена ответственность за студенческие выступления и гибель людей на площади Тянаньмынь в 1989 году. Напоминаю эти факты, чтобы подчеркнуть, что преемственность власти в Китае - процесс сложный. И, желая сегодня успеха новому генеральному секретарю, мы не знаем точно, насколько прочны и долговечны его позиции. Китаю неизбежно предстоит пережить период сложных внутриполитических маневров, но ясно, что наименее вероятным их результатом окажется либерализация политического режима. Насколько внимательно в Пекине изучают западный экономический опыт, чтобы его повторить, настолько же внимательно изучают и советский опыт времен Горбачева, чтобы его не повторить. Объявленная внутрипартийная реформа - это скорее своего рода умеренная "хрущевизация" (с отказом от диктатуры пролетариата, но без разоблачения прошлого), чем "горбачевизация" КПК.
Цзян Цзэминь, оставляя пост генсека (после 13 лет самых высоких в мире темпов экономического роста), открывает время перемен, но не революций. В их непродуктивности китайский народ за долгие годы своей истории успел убедиться.
Новости

На протяжении всей последней недели главной новостью в средствах массовой информации планеты был XVI съезд компартии Китая (КПК). В самой быстрорастущей стране мира, где уже проживает каждый пятый землянин, готовилась смена генерального секретаря правящей
Все больше людей предпочитают жить одни - без супругов, без детей, без родни

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...
80 лет назад Советская армия пошла на штурм столицы прусского логова

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....
80 лет назад состоялась историческая встреча на Эльбе

1719 В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 1792 Установленное в Париже доктором Жозефом Гильотеном устройство выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику Николя Жаку Пеллетье....
Хороших решений проблемы бродячих собак пока не найдено

Всего месяц радовала благовещенских жителей и гостей города лебединая пара, выпущенная биологами в Ивановское озеро. Потом белоснежную лебедушку растерзали бродячие собаки, и вдовец еще долго рассекал водную гладь в поисках...
Первые иски к кикшеринговым компаниям появились сразу в нескольких районных судах Петербурга

Это свершилось под напором возмущенных граждан, ставших жертвами на тротуарах и пешеходных переходах. В сентябре 2024-го на Татьяну наехал электросамокат с несовершеннолетним подростком за рулем. Жертва ДТП получила...
В Калининграде получили первую партию черной икры

Умный дрон вернется В Новосибирском государственном университете создали беспилотный летательный аппарат, способный доставлять грузы в труднодоступные районы. На испытаниях дрон успешно перелетел Обское водохранилище и доставил...
Командование противника держало против российской армии только две бригады территориальной обороны

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) повторило ошибку, допущенную российскими генералами в августе 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Подоляка. «Фактически военное командование ВСУ здесь...
Выведена формула: чем выше каблуки, тем больше хромает экономика

Оказывается, состояние экономики можно измерять не только скучными цифрами, отражающими уровень инфляции, ВВП и курс доллара. Найдены показатели позабавнее и поточнее. Такие, например, как индексы женских юбок и мужских галстуков —...
Может, государству стоит обратить внимание на проблемы миграции?

События прошлой недели вновь ставят вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. В минувший понедельник, 14 апреля, СМИ сообщили, что кладовщик из «Яндекс Лавки» и повар из ООО «Урюк» были...
Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Недавно был обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. В лидерах — Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Ленинградская, Калининградская, Ростовская области и Краснодарский...
В одном из дворов Архангельска появился механизированный дворник

Непьющий дворник, причем из местных Архангельский инженер Денис Коробицын решил вопрос уборки снега возле своего многоквартирного дома. Умелец изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машину, которая за полчаса очистила двор от сугробов....
У россиян в массе безэмоциональные «покерные лица»

На занятиях по актерскому мастерству люди от 18 до 65 лет включительно пытаются изобразить эмоции на своем лице. Упражнение называется «Вам письмо». «Актер» вытягивает случайное послание и,...
В Оренбургском заповеднике зацвели тюльпаны Шренка

Цветет символ весны В Оренбургском заповеднике распустились тюльпаны Шренка. Эти желтые цветы на Южном Урале считаются символом весны. Ботаники напоминают, что посетители заповедника могут любоваться тюльпанами, а вот рвать категорически...
36-летняя екатеринбурженка родила тринадцатого ребенка

Счастливая чертова дюжина На Урале случилось редкое по нынешним временам событие. Жительница екатеринбургского района Уралмаш благополучно разрешилась от бремени тринадцатым ребенком. Как сообщили акушеры горбольницы № 14,...

Противник понес их за минувшие сутки в зонах ответственности группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр»

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили за минувшие сутки без малого 800 украинских военнослужащих. Об этом сообщает в социальной...
Это поселок заняли подразделения группировки войск «Запад»

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Это поселок, который...