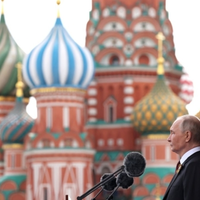В рассказе "Антоновские яблоки", написанном сто лет назад, Иван Алексеевич Бунин вспоминает, как листал старые книги в усадебной библиотеке своего соседа-помещика: "И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, розы и лилии, "проказы и резвости молодых шалунов", "лилейная рука..."
Как Бунин с грустью перебирал слова начала XIX века, так и мы читаем теперь самого Бунина: "ржаной аромат новой соломы", "лиловатый туман", "он у тетки ездил форейтором..."
Недавно мама написала мне: "...Исчезают на глазах простые обычные вещи - вчера Митька разбил последнюю молочную бутылку. Все, нет их больше в продаже, а помнишь, как носили их авоськами сдавать?.."
Вот и слова - простые русские слова, еще недавно бывшие в каждодневном обиходе, - они исчезают, как эти молочные бутылки нашего детства. Кругом - "как бы" и "короче". Чистый русский язык становится для старших поколений воспоминанием, а для детей - диковинкой.
Школьные учителя умоляют прибавить часов на литературу, поскольку в "Евгении Онегине" им приходится толковать подросткам почти каждое слово. Недавний опрос московских второклассников показал, что они не имеют понятия о том, что значит слово родина. Среди гипотез: "это точка на лице", "вода из-под земли"... Русь, как считают дети, это "что-то вроде лавы", "зверь, которого не существует", "космический спутник"...
Удивляться нечему: наши дети живут в серной кислоте сквернословия, в такой агрессивной языковой среде, в которой не выживает ничего ласковое, приветное, благозвучное. То, что они слышат по телевидению, на улицах, а часто и в семье, - все это не имеет ничего общего не только со стилем отечественной классики, но и просто с русским языком. К тому же реклама вокруг - на латинице, названия модных журналов - на английском, модные радиостанции - это дикая смесь уголовного арго и американизмов.
На днях я получил письмо из Казани, студентка одного из гуманитарных факультетов Казанского университета пишет о своем впечатлении от только что прочитанной книги "Кавказская Голгофа", посвященной судьбе протоирея Петра Сухоносова, замученного чеченскими боевиками: "Книга меня потрясла! Прочла ее запоем, за два дня. Живя в общежитии третий год, я стала злоупотреблять матом, огрубела как-то. После книги расхотелось произносить матные слова вообще, а слышать их от кого-либо стало противно. Резко для слуха стало слышать мат от однокурсников, соседей, моего парня, мамы... Правда, еще бывает, что у меня проскакивает словечко в экстренной ситуации. После этого сама себе противна, потому что как бы слышу себя со стороны..."
Еще лет пятнадцать - двадцать назад сама мысль о возможности такого тоталитаризма сквернословия воспринималась бы как мрачная фантастика. Сегодня это быт не только солдатских казарм, но наших университетов, школ, детских садов...
Слово - больше чем филология, это основа духовной жизни. Всякое насилие над народом тут же отзывается оскудением языка. Вспомним 20 - 30-е годы прошлого века: уничтожение крестьянства и духовенства не случайно совпало со страшным падением речевой культуры, с повальным распространением сквернословия и появлением уродливого новояза, отравившего на многие годы не только повседневную речь, но и литературу. Наивно думать, что нынешнее повреждение русского языка можно преодолеть такими акциями, как Год русского языка. Необходимо многолетнее (а, возможно, и многовековое) восстановление самих основ нашей жизни - нравственных и культурных прежде всего.
Вот что пишет педагог Алла Леснова из Иванова: "Лет десять назад нам с дочкой удалось побывать в Крыму, в Ялте. Благословенное место. От Симферополя до Ялты мы ехали на такси. Водитель оказался очень милым, общительным человеком. В Ялте мы не сразу нашли нужный нам дом. Водитель такси вышел и обратился к проходившему мимо пожилому человеку: "Почтеннейший!" И "почтеннейший" объяснил нам, куда следует ехать. А еще было слово "добропорядочный". Добрый да еще и порядочный. Теперь эти качества в человеке редки, а с ними и слово забывается...
В детстве каждое лето я проводила у незабвенной моей бабушки в южном русском городе Россоши. Когда мы шли с бабушкой на базар, то к продавщице она обращалась так: "Барышня!" Для меня было удивительно слышать это слово, потому что в большом городе, где я училась в школе, его уже давно не употребляли в обыденной речи. Мне сейчас очень не хватает этого "барышня". Сама атмосфера нашей жизни без таких слов стала враждебной для души..."
А я вот почему-то скучаю по слову калитка. В нем есть поскрипывание самой калитки и почему-то чувствуется по звуку, что она деревянная. Калитка во дворе моего детства была так крепко сбита, что мы часто катались на ней по очереди. Было интересно обозревать улицу и одновременно плыть в воздухе.
А помните, Лаврецкий в "Дворянском гнезде" после объяснения с Лизой упирается в закрытую на ночь калитку, ему непривычно, что она закрыта, он секунду медлит, а потом как мальчишка перемахивает через нее? Калитка будто не отпускала его, забор вокруг усадьбы Лизы Калитиной был границей между счастьем и несчастьем. Между миром покорности, любви, домашнего света и стихией своеволия, страсти, неприкаянности.
Лиза Калитина... Тоже, наверное, не слепой случай подсказал Тургеневу эту тихую фамилию. Может быть, поскрипывание калитки на осеннем ветру?
Новости

Нас уверяют, что русский язык - не кисейная барышня, он переварит и сленг, и рекламные слоганы, и мат. Тем временем дети уже не могут читать Пушкина без словаря, а герои сериалов просто рычат друг на друга
Все больше людей предпочитают жить одни - без супругов, без детей, без родни

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...
80 лет назад Советская армия пошла на штурм столицы прусского логова

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....
80 лет назад состоялась историческая встреча на Эльбе

1719 В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 1792 Установленное в Париже доктором Жозефом Гильотеном устройство выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику Николя Жаку Пеллетье....
Командование противника держало против российской армии только две бригады территориальной обороны

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) повторило ошибку, допущенную российскими генералами в августе 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Подоляка. «Фактически военное командование ВСУ здесь...
Хороших решений проблемы бродячих собак пока не найдено

Всего месяц радовала благовещенских жителей и гостей города лебединая пара, выпущенная биологами в Ивановское озеро. Потом белоснежную лебедушку растерзали бродячие собаки, и вдовец еще долго рассекал водную гладь в поисках...
Первые иски к кикшеринговым компаниям появились сразу в нескольких районных судах Петербурга

Это свершилось под напором возмущенных граждан, ставших жертвами на тротуарах и пешеходных переходах. В сентябре 2024-го на Татьяну наехал электросамокат с несовершеннолетним подростком за рулем. Жертва ДТП получила...
В Калининграде получили первую партию черной икры

Умный дрон вернется В Новосибирском государственном университете создали беспилотный летательный аппарат, способный доставлять грузы в труднодоступные районы. На испытаниях дрон успешно перелетел Обское водохранилище и доставил...
Выведена формула: чем выше каблуки, тем больше хромает экономика

Оказывается, состояние экономики можно измерять не только скучными цифрами, отражающими уровень инфляции, ВВП и курс доллара. Найдены показатели позабавнее и поточнее. Такие, например, как индексы женских юбок и мужских галстуков —...
Может, государству стоит обратить внимание на проблемы миграции?

События прошлой недели вновь ставят вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. В минувший понедельник, 14 апреля, СМИ сообщили, что кладовщик из «Яндекс Лавки» и повар из ООО «Урюк» были...
Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Недавно был обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. В лидерах — Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Ленинградская, Калининградская, Ростовская области и Краснодарский...
В одном из дворов Архангельска появился механизированный дворник

Непьющий дворник, причем из местных Архангельский инженер Денис Коробицын решил вопрос уборки снега возле своего многоквартирного дома. Умелец изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машину, которая за полчаса очистила двор от сугробов....
Противник понес их за минувшие сутки в зонах ответственности группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр»

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили за минувшие сутки без малого 800 украинских военнослужащих. Об этом сообщает в социальной...
Ветеран СВО, оставшись без ног, личным примером помогает инвалидам войны побороть страх перед неизвестностью

«С какими чувствами мы возвращаемся с войны? Если честно, то с определенным страхом, понимая, что адаптироваться к мирной жизни будет непросто. Особенно это касается тех, кто получил в бою серьезные ранения, —...
Это поселок заняли подразделения группировки войск «Запад»

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Это поселок, который...

У россиян в массе безэмоциональные «покерные лица»

На занятиях по актерскому мастерству люди от 18 до 65 лет включительно пытаются изобразить эмоции на своем лице. Упражнение называется «Вам письмо». «Актер» вытягивает случайное послание и,...
В Оренбургском заповеднике зацвели тюльпаны Шренка

Цветет символ весны В Оренбургском заповеднике распустились тюльпаны Шренка. Эти желтые цветы на Южном Урале считаются символом весны. Ботаники напоминают, что посетители заповедника могут любоваться тюльпанами, а вот рвать категорически...