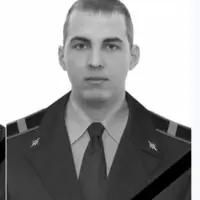«...Мимо речки, мимо луга/ по шоссе «Дербент — Калуга»/ шёл солдат своей страны/ с необъявленной войны./ Не англо-бурской,/ не франко-прусской,/ а самой что ни на есть русской...» Этими строками в духе русского народного райка, но звучащими остро современно, будет начинаться спектакль «Черт, солдат и скрипка» по произведениям Игоря Федоровича Стравинского, который покажут 19 мая в зале имени Чайковского в рамках фестиваля «Черешневый лес». В основе — известная музыкальная притча 1918 года «История солдата», но ее фольклорный сюжет приближен к сегодняшнему дню: тут появляются биржи, банки, риэлторы, интернет — и все это еще вернее, чем в классической версии, помогает Черту окрутить Солдата. Необычен и состав исполнителей, привлеченных автором проекта скрипачом Дмитрием Ситковецким: в образе Солдата предстанет Андрей Макаревич, а роль Чтеца исполнит Владимир Познер. Какое место занимает музыка в жизни популярного телеведущего? Об этом и многом другом мы поговорили с Владимиром Владимировичем накануне премьеры.
— Многих удивило ваше участие в музыкальном спектакле «Черт, солдат и скрипка» по произведениям Игоря Стравинского. А вас самого это предложение, когда вы его услышали, не удивило?
— Не то что удивило — моей первой реакцией был отказ, я ответил автору идеи скрипачу и дирижеру Дмитрию Ситковецкому, что, хотя к музыке Стравинского отношусь очень хорошо, актером я не являюсь, и вообще не люблю, когда делом, требующим серьезной профессиональной подготовки, занимаются непрофессионалы. Но Дмитрий не отступил, напомнил мне о некоторых моих опытах, в частности об аудиокниге, где я читал рассказы Киплинга, и предложил все-таки попробовать. Я согласился. Первая репетиция, на мой взгляд, прошла неудачно. Однако на второй я увлекся — прежде всего самим произведением, а кроме того возник уже некоторый задор: вдруг смогу?.. Хотя по-прежнему считаю, что для меня это безусловная авантюра и разовая вещь. Знаю, что Дима хотел потом ездить с ней по городам и весям, и она на самом деле того стоит, но конечно для меня это совершенно исключено просто по условиям моей работы.
— Вас не смутило, что вместо классического текста сказки Афанасьева, которую использовал в своей «Истории солдата» Стравинский, вам предложили читать версию современного поэта Михаила Успенского?
— Нет, мне кажется, именно оттого, что эта версия современная, становится совершенно ясно, насколько вечна отраженная в ней коллизия. Смысл всей этой истории: не верь Черту никогда — ни такому, какой он в народной сказке, ни такому, который сулит тебе все блага сегодняшней цивилизации. Все равно обманет, соблазнит и погубит.
— Хотя это первый ваш собственно музыкальный проект, музыка, насколько знаю, играла и играет заметную роль в вашей жизни.
— Музыку я очень люблю, это часть моего существования — так же, как, допустим, литература. Я много читаю — и я много слушаю, у меня дома довольно большое собрание музыкальных записей. Уж не говорю о том, что моя дочь Катя — композитор и пианистка, воспитанница ЦМШ и Московской консерватории, а ее бабушкой была известный композитор Зара Левина. В классике для меня особняком стоят, пожалуй, Бах и Моцарт, если же говорить об афроамериканской музыке, то это джаз, блюзы и спиричуэлс. Менее понятно мне то, что называют современной атональной музыкой. И очень важно, конечно, кто исполнитель. На днях я был в Венеции и слушал там Первую симфонию Малера, дирижировал Теодор Курентзис. Не могу назвать себя таким уж знатоком музыки Малера, но исполнение было столь ясным и экспрессивным, что впечатление осталось замечательное.
— Вас знают прежде всего как автора огромного количества интервью со знаменитыми людьми. Наверное, вы и сами уже потеряли им счет. Но, при большом количестве поэтов, прозаиков, рок-музыкантов, кинематографистов — среди ваших героев не очень много представителей классической музыки.
— Это правда — но музыкантов вообще мало, гораздо меньше, чем политиков, государственных деятелей или, скажем, писателей. Хотя были у меня в эфире, например, некоторые известные пианисты. Видите ли, часто это люди, как бы поточнее выразиться... не очень говорящие, у них другой род занятий. И потом, моя программа «Познер» — не канал «Культура», я приглашаю в нее собеседников не для того, чтобы поговорить об их профессии. Т.е. и о ней, конечно, тоже, но главное — раскрыть их именно как людей, понять, кто они такие и почему оказывают то или иное влияние на наше общество.
Ну и потом, говорить о музыке я считаю совершенно бессмысленным делом. Это никак не способствует тому, чтобы публика лучше ее понимала.
— Как же, а Светлана Виноградова с ее рассказами о музыке? В 70-е — 80-е годы она была абсолютной телевизионной звездой.
— Насколько помню, Светлана Виноградова гораздо больше рассказывала о музыкантах, нежели о музыке, и многим это было интересно... Понимаю, то, что сейчас скажу, вряд ли вам понравится, но есть целый ряд профессий — музыкальный критик, критик искусства, литературы, телевизионных программ и так далее, — которые я считаю бесполезными. Почему мнение, которое они высказывают, более основательно, чем чье-либо еще? Только потому что у них (и то не у всех) есть специальное образование? Но на самом деле я, к сожалению, очень часто сталкивался с тем, что критик — это человек, как раз не сумевший стать музыкантом-исполнителем, или писателем, или художником. И решивший критиковать (чаще всего — поносить) работу других, больше него в этом деле преуспевших.Очень редко я встречал критиков, которые действительно глубоко разбирались бы в теме. Это так же редко, как хороший редактор. Вы знаете, хороший редактор — даже большая редкость, чем хороший писатель, как ни странно.
— Итак, цель ваших интервью — раскрыть человека. И какое же из этих раскрытий оказалось для вас наиболее захватывающим и неожиданным?
— О-о, таких было много, мне легче назвать одну или две провальные встречи, провал ведь очень запоминается. Я никогда этого не скрывал, и вам скажу, что потерпел неудачу в беседах с М.М.Жванецким и Иваном Ургантом —не той, что была у меня с Ваней на днях, а той, что состоялась 8 лет назад. Совершенно не сумел найти ключ ни к тому ни к другому собеседнику.
— Удивительно, ведь это люди, явно духовно вам близкие. Видимо, вы так понадеялись на это духовное родство, что не очень готовились...
— Нет, никакого отношения к степени подготовки это не имело, а имело отношение к тому, что и того и другого я очень люблю и, как выяснилось, не смог задать им те жесткие вопросы, без которых ни одно интервью, даже самое дружеское, немыслимо, потому что иначе оно превращается в патоку, приторную кашу без мяса...
— Кстати, сколько времени обычно занимает у вас подготовка к интервью?
— Трудно сказать. Потому что, допустим, узнавая, что через две недели буду интервьюировать такого-то человека, я уже начинаю об этом думать, искать подход и структуру разговора, все это вертится в голове помимо воли практически круглосуточно. Что же касается формальной подготовки, т.е. сбора и чтения материалов о человеке, того, что он говорил и писал — это занимает не больше трех-четырех дней.
— «Не больше трех-четырех дней»... Громадное большинство ваших коллег, имея неизмеримо меньший опыт и статус, чем у вас, не тратит на подготовку и трех-четырех часов... Но, извините за глупый вопрос, не наступит ли момент, когда вам наскучит эта бесконечная череда разговоров? Да и интересные герои могут исчерпаться.
— То, что герои могут исчерпаться, конечно, неправда — как известно, неинтересных людей нет, это лишь мы не всегда даем себе труд разобраться, чем они интересны. А вот то, что в какой-то момент мне захочется сменить жанр работы, не исключено.
— Продолжая тему подготовки к беседе: извините за банальный ход, но я перед сегодняшним разговором заглянул в википедию, которой вы, говорят, не доверяете, и мне там обрисовали образ, прямо скажем, эпатажный, чуть ли не диссиденский. Вот, если верить написанному, сумма ваших качеств: атеист, сторонник эвтаназии, защитник однополых браков, поборник легализации наркотиков, приверженец анархизма... Просто прямая противоположность тем идеалам, которые нам проповедуют главные федеральные каналы. Идя мимо их начальственных кабинетов, не чувствуете себя этаким Штирлицем в коридорах Рейхсканцелярии?
— Ничуть — во-первых, я не притворяюсь, а абсолютно открыто высказываю свою точку зрения. Уже поэтому не Штирлиц. Во-вторых, по тем коридорам хожу очень редко, поскольку, например, на Первом канале я не работаю, он лишь покупает нашу программу. Бываю там раз в неделю, когда выхожу с ней в эфир. И никакой моей сопричастности к тому, что проповедуется федеральными каналами и вообще федеральной властью, нет. Ну а то, что вы перечислили... понимаете, все это по большей части чрезвычайно поверхностно и на самом деле ничего не объясняет. Да, я действительно атеист, но таких, как я, много. Другое дело, что сегодня это, так сказать, официально не поощряется и не вызывает восхищения. Точно так же, как в советское время было не очень принято, а то и опасно говорить, что ты верующий... Что касается эвтаназии, то считаю, да, человек хозяин своей жизни и, если она приносит ему невыносимые страдания, он имеет право попросить, чтобы ей положили конец. Когда я говорю о наркотиках, то понимаю, что единственный способ победить наркомафию — это отнять у нее денежный стимул, т.е.вытеснить нелегальную торговлю легальным распространением. Сегодня подпольная продажа наркотиков приносит в мире, согласно официальным данным, от 4 до 5 трлн. долл. в год. Это примерно сколько же, сколько дает торговля оружием... Точно такая же ситуация была в Америке, когда там приняли сухой закон, да и в нашей стране вводились подобные запреты. Ничего, кроме чудовищного роста организованной преступности, это не принесло, поскольку пить люди все равно не перестали. И пришлось этот закон отменить, и это было разумно. Ну а что касается анархизма, это просто глупость, я никогда не говорил, что являюсь сторонником анархии. Как не выступал я и за однополые браки. Суть в ином: считаю, что два взрослых человека имеют право жить так, как хотят, только бы это не мешало другим жить так, как того хотятони. Вспомните Вольтера: «Я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право это говорить». Нет, я совершенно не являюсь сторонником ни однополого, ни гетерогенного брака, я — сторонник права людей жить так, как они желают... Теперь вы видите, что не поколебали моего отношения к википедии?
— Меня удивило, что вы выступили за дозирование негативной информации в эфире. За это Алексей Навальный на канале «Дождь» даже обвинил вас в стремлении возродить цензуру.
— Если вы так меня поняли, то это абсолютное искажение того, что я говорил. Спор у нас с г-ном Навальным возник вокруг истории с узбекской няней, отрезавшей голову маленькому ребенку: так ей якобы велел Всевышний. Я сказал всего лишь, что если бы я распоряжался информацией, то никогда не дал бы эту новость главной за весь день и даже за неделю. Хотя само по себе деяние чудовищно, но это же не террористический акт, представляющий угрозу для многих. Со всей очевидностью тут речь о поступке нездоровой женщины. А учитывая состояние дел в межнациональных вопросах, я бы тем более был осторожен в подаче этой новости, не скрывая ее, но и не ставя на первую позицию. Теперь дальше: на любом телевизионном канале кто-то же принимает это решение — из тысяч приходящих новостей давать в эфир, допустим, десять. Во-первых, просто потому что эфир не может вместить все, во-вторых далеко не все одинаково интересно. А вот что именно интересно — это решают те самые люди. Обвинять их в цензуре — значит совершенно не разбираться в телевизионной специфике. Вот и все. Тут вообще вопрос не цензуры (я ее категорический противник), а ответственности: ты отбираешь то, что считаешь важным для общества, и должен осознавать, какую реакцию это вызовет. Вы же даете не просто картинку, но и слова к ней. А слова к одной и той же картинке можно подобрать самые разные. Можно сказать: вот представительница другой нации и веры убила нашу православную девочку по религиозным мотивам... И реакция будет одна. А можно сказать: явно больной человек совершил неадекватный поступок, лишив жизни другого человека... И реакция будет иная. Вот о чем речь — о профессиональной ответственности. Неужели г-н Навальный этого не понимает?
— Тогда вопрос, которым вас, подозреваю, в последнее время замучили: понимали ли вы степень ответственности за слова, которыми в эфире осудили молодого человека с ограниченными возможностями за то, что он принял участие в конкурсе «Минута славы» наряду со здоровыми людьми?
— Понимал, и повторю эти слова в любой момент где угодно. Я абсолютно твердо считаю, что если у вас есть физические проблемы, а вы хотите принять участие в соревновании, где у других таких проблем нет, то вы должны быть готовы ко всему, в том числе к проигрышу. Да, есть понятное человеческое чувство жалости, в том числе у судей, но рассчитывать на него, сознательно или несознательно, по-моему, неправильно. Допустим, вы бежите стометровку — и совершенно неважно, на двух ногах вы ее пробежали, на одной или на трех. Важен результат. Тем, кто считает, что я неправ и молодого человека надо было пожалеть и сделать для него исключение, я отвечу: лучше бы пожалели тысячи тех, кто находится в инвалидном в кресле и не может выйти из дома, потому что на лестницах нет пандусов, в автобусах и троллейбусах отсутствуют подъемные ступеньки, а в большинство общественных туалетов не заедешь на коляске. Вот это действительно была бы забота общества о его несправедливо обиженных членах.
— Верну разговор в музыкальную тему. С кем из великих музыкантов вам приходилось общаться? Знали ли вы, например, Шостаковича? Или Стравинского, чье произведение сегодня будете исполнять?
— К сожалению, нет, я не знал даже Святослава Теофиловича Рихтера, хотя очень близкие мне люди — моя первая жена Валентина Николаевна Чемберджи и нашла дочь Катя — его хорошо знали...
— А если бы все же встретили Дмитрия Дмитриевича или Игоря Федоровича, о чем бы вы их спросили?
— К Стравинскому у меня нет вопросов. А к Шостаковичу их довольно много, хотя они не относятся к музыке. Во-первых, я бы спросил, в какой степени известная книга Соломона Волкова, вызвавшая столько споров, соответствует правде. Во-вторых, попросил бы рассказать, как он на самом деле относится к советской власти. И почему, будучи в конце 1940-х годов делегированным в Соединенные Штаты на конгресс защитников мира, согласился поносить своих коллег, в том числе того же Стравинского, читая речь, которую ему написали в ЦК и Союзе композиторов. Что это было — осторожность много повидавшего человека или просто страх? Не знаю, читали ли вы недавно вышедший роман Джулиана Барнса «Шум времени» о Шостаковиче...
— Читал, и мне кажется, там создан очень односторонний образ. Дмитрий Дмитриевич был мудрейшим человеком и на какие-то вещи шел совершенно сознательно, хотя они были ему крайне неприятны, как то же выступление в Америке. Но он говорил все это настолько казенными, подчеркнуто прямолинейными формулировками, что всякий, кто знал его музыку, должен был понять смысл: ребята, отстаньте от меня, я говорю это, потому что не могу сказать ничего другого, а то, что я думаю и чувствую, выражено в моих партитурах.
— Мне, напротив, книга Барнса показалась необычайно интересной. И заметьте, ведь до сих пор никто эту тему, тему страха в жизни великого композитора, так впечатляюще не затронул. А то, что страх был, я могу себе представить, зная ту эпоху не понаслышке и достаточно много общаясь с людьми, близкими к Дмитрию Дмитриевичу.
— А вы сами перед кем-нибудь робели?
— Пожалуй, нет. Были те, что вызывали восхищение, но робость — нет.
— У меня было странное ощущение в первые минуты вашего общения с Никитой Михалковым, что это он перед вами робеет. Зато как он потом расправил крылья и воспарил!
— Он прекрасный актер.
— А как воспрянула Земфира, которая сперва говорила односложно — ивдруг выдала потрясающие откровения насчет того, что ей в жизни реально дорого... А как неожиданно неинтересен оказался Шнур! По крайней мере для меня.
— Не только для вас.
— Более того, Борис Гребенщиков, гениальный в своих песнях, не сказал, по-моему, ничего интересного. Вы действительно раскрываете людей с совершенно неожиданных сторон.
— Это не я, они сами так раскрываются.
— Но отчего вы, как кинематографист, столько снимавший в разных странах мира, не хотите раскрыть своего отношения к тему, что происходит в нашей собственной стране? Где-то я прочел, что в России вам в глаза бросается прежде всего негатив, а погружаться в него неохота...
— Снова не понимаю, откуда у вас такая информация. Я говорил другое: от долгой жизни в России у меня глаз замылился, и к вещам, которые свежего наблюдателя бы поразили, я уже привык. Сам это с удивлением понял, когда ко мне в гости приехал мой внук, родившийся и выросший в Германии. Мы ехали на дачу, он смотрел в окно машины и говорит: скажи, а почему телеграфный столб стоит криво?.. У меня в голове это сразу вызвало другой вопрос: почему он так спрашивает? Да потому что в Германии все столбы стоят прямо. Я мог бы ему объяснить, почему у нас столбы часто стоят криво. Но, поскольку это привычно, я сам перестаю это замечать.
— Вы говорили о возможной смене жанра. А никогда не приходило в голову сделать такой проект-релакс, вроде тех чудесных, милых бесед с людьми искусства «Рандеву с дилетантом», которые ведет на радио «Орфей» совершенно ушедший из политической журналистики Владимир Молчанов?
— Нет, пока что мне интересно то, чем я занимаюсь. Понимаете, есть еще и вторая сторона: я знаю, что для многих людей мои передачи важны, уж простите, это не я, они сами мне это говорят, когда я получаю отклики на эфир или где-то выступаю с творческими вечерами. Конечно, очень мило делать симпатичную домашнюю передачку для себя и друзей. Но вряд ли она будет иметь сколько-нибудь заметное воздействие на наше общество, которое очень нуждается в том, чтобы существовали разные точки зрения, и эти точки зрения могли быть высказаны.
— Вы могли бы сформулировать ваш жизненный девиз?
— Нет у меня никаких девизов. Могу только сказать, что как журналист придерживаюсь принципа не принадлежать ни тем, ни этим.