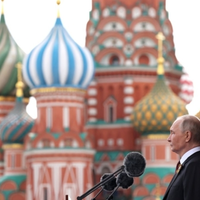Новый год — и новые реформы все в том же перманентно перестраивающемся российском здравоохранении. Причем на этот раз новации охватят и пациентов, и врачей. Что же на этот раз придумал Минздрав?
Появятся, к примеру, официальные медицинские опекуны граждан — страховые поверенные. Они должны будут лично отслеживать процесс лечения, помогать в выборе врача, поликлиники, напоминать о необходимости пройти диспансеризацию. Хорошая задумка? Теоретически — да. Но только если страховой поверенный проявит искреннюю заинтересованность в судьбе опекаемого, а не возьмет на себя функцию негласного рекламного агента. А вообще-то есть опасения, что затея может свестись к обычной формальной отчетности.
Другое новшество — систематические проверки уровня квалификации медиков. С 2016-го планируется начать аккредитацию врачей. Речь о допуске к профессии, причем планка будет высокой, ибо ориентир — новейшие клинические протоколы. Это действительно нужно, потому что многие наши медики, увы, сильно отстали от мирового уровня.
Но, пожалуй, самые неоднозначные предложения Минздрава, уже вызвавшие бурную дискуссию на интернет-форумах, связаны с реформой в системе подготовки медицинских кадров. К сентябрю 2016-го предлагается отменить интернатуру — ту самую годичную последипломную стажировку вчерашних студентов в клиниках, больницах, во время которой молодежь овладевала врачебным искусством на практике под руководством опытных коллег. Этот седьмой год обучения упраздняют не просто так. Начиная со следующего года 95% выпускников медвузов (за исключением наиболее талантливых студентов, проявивших склонность к научным исследованиям) отправятся не в интернатуру и не в сохранившуюся ординатуру, а в обычные поликлиники, где должны будут в качестве врачей общей практики отработать три года. И это будет обязательным правилом.
Опытные медики бьют тревогу. По их мнению, выпускники вузов, не имея достаточного опыта, придут в поликлинику и наломают дров. Реформа грозит аукнуться неверными диагнозами, ошибками в лечении, ростом недоверия со стороны пациентов к человеку в белом халате. «Это будет катастрофа в здравоохранении, — пишет в своем блоге терапевт, кардиолог, доцент Омского государственного медицинского университета Николай Николаев. — В поликлиники придут врачи-недоучки. С их появлением пациенты станут умирать чаще...»
Таких жестких комментариев в интернете большинство. Впрочем, есть и не согласные с доктором Николаевым. Вот и глава Минздрава Вероника Скворцова дает весьма оптимистичный прогноз: «В 2017 году из медвузов выйдут первые выпускники, которые учились уже по новым государственным стандартам, ориентированным на практику, фактически с возобновлением субординатуры на старших курсах, которая когда-то была. Ребят подготовили так, чтобы они молодыми специалистами были готовы идти работать на участок».
Да, до 1967 года в СССР интернатуры в медицинских вузах не было, на старших курсах получить практические навыки и опыт действительно помогала студентам субординатура. Правда, в те времена и качество обучения было другим. И отнюдь не случайно в 1967-м ввели интернатуру. Время покажет, кто прав в этой дискуссии. Правда, цена управленческой ошибки в этом случае слишком высока: здоровье и жизни.
Хотел бы сослаться на печальный опыт Великобритании. «Сезоном убийств» называли в Англии до недавнего времени период, начинавшийся с августа, когда молодые неопытные врачи выходили после окончания учебы на работу. В 2009-м, сообщает «Дейли мейл», был сделан чрезвычайно тревожный, шокирующий вывод на основе изучения 300 тысяч историй болезни: смертность пациентов в «сезон убийств» вырастала на 6%. И теперь английские врачи-новички в обязательном порядке какое-то время находятся под опекой — по выражению прессы, «в тени старших коллег». Интересно, знают ли об этом примере в российском Минздраве?
За последние годы в ходе скороспелых реформ в нашем здравоохранении было допущено немало ошибок. Скорую помощь, например, перевели из бюджетного финансирования в систему обязательного медицинского страхования. Руководители станций предупреждали, что это неизбежно осложнит работу неотложки. Так и случилось. Решение чиновников оказалось ошибочным, теперь приходится давать задний ход. Как бы не обернулось просчетом и упразднение интернатуры...
Разумеется, замысел понятен. Направляя выпускников медвузов в поликлиники, Минздрав хочет одним махом покончить с дефицитом врачей в амбулаторном звене. Желание-то хорошее, но что скажут чиновники, если после этого заметно увеличится смертность россиян? Впрочем, она и без того растет, а ведь еще недавно в победных рапортах говорилось о неуклонном снижении смертности.
Что вообще сегодня происходит в отечественной медицине? Объемную картину дает свежий сборник Росстата «Здравоохранение в России» (выходит раз в 2 года). Интересно сравнить нынешнюю статистику с данными 1990 года. За четверть века мировая медицина шагнула далеко вперед. Разработаны более эффективные методы лечения, появились следующие поколения лекарств, достигли нового уровня хирургические операции. В том числе и по этой причине люди стали жить значительно дольше. За небольшой по историческим меркам срок ожидаемая продолжительность жизни выросла в мире в среднем более чем на 6 лет — с 65,3 до 71,5 года. Очень серьезный сдвиг. А в ряде стран Европы (Франция, Италия, Германия, Великобритания, Швейцария, Испания, Норвегия, Швеция) этот важнейший показатель поднялся до рекордных значений: с 76-78 лет в 1990-м до 81-82,6 в 2014-м. Абсолютный рекордсмен здесь Япония — 84 года.
А что в нашей стране? За ту же четверть века ожидаемая продолжительность жизни в России (РСФСР до распада Советского Союза) увеличилась всего на 1,8 года — с 69,2 до 71 года. И если накануне распада СССР мы отставали от восьми названных выше стран на 6,8-8,8 года, то сегодня разрыв увеличился до 9,5-10,5 года.
Наихудшие показатели у нас были в 1990-х и начале 2000-х, когда в мир иной уходило ежегодно в 1,5-2 раза больше россиян (в расчете на 1000 граждан), чем, например, в 1964-м. С 2004-го негативная тенденция сменилась на позитивную, смертность в России сокращалась в течение целого десятилетия. Долгожданный перелом? Однако в 2014-м ситуация снова ухудшилась.
Возьмем, к примеру, смертность от злокачественных образований. За 11 месяцев 2015 года она была выше, чем за тот же период в 2014-м. Этот показатель в России в расчете на 100 тысяч населения составляет 200 человек, а в США — 161. Одна из причин в том, что в России поздно обнаруживается коварная болезнь. А где результаты диспансеризации, позволяющей своевременно обнаружить грозную опасность?
По данным Росстата, за 5 лет диспансеризацию прошли более 180 млн россиян. Выходит, все население страны, а многие — и дважды. Но тогда главный вопрос: что же дал этот якобы поголовный осмотр? Судя по отчетам, было выявлено 270 тысяч человек с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, при которых прогноз лечения обнадеживающий. И можно было бы давать медали за диспансеризацию, если бы за ту же пятилетку полмиллиона россиян не узнали о том, что у них неизлечимая IV стадия рака... Спрашивается, они не были охвачены диспансеризацией? Или оказались среди тех, кому в историях болезни врачи, занимающиеся приписками, проставили обследование заочно, придумывая результаты? Такие факты были вскрыты в последнее время. Да можно ли вообще верить этой «благополучной» статистике?
Для справки: в США рак груди у женщин, рак простаты у мужчин, рак щитовидной железы, мочевого пузыря, меланома обнаруживаются сегодня на роковой IV стадии очень редко, лишь у 4-5% онкологических больных. Обычно эти болезни успешно лечат на ранних стадиях. Почему же американцам удается, а нам — нет?
Острейшая проблема нашего здравоохранения — смертность в трудоспособном возрасте. В 2014-м, не дожив до пенсии, ушли в мир иной около полумиллиона наших сограждан. В 1960-м этот показатель в РСФСР был почти вдвое меньше — 257,7 тысячи. К 1990 году он увеличился до 409,9 тысячи. Пик смертности трудоспособных граждан (739,9 тысячи) пришелся на 2005-й. Затем ситуация стала улучшаться. Однако в 2014-м снова начался рост. Когда полмиллиона россиян покидают бренный мир, не дожив до 60 (мужчины) или 55 (женщины), это сигнал бедствия, свидетельство серьезных проблем с доступностью и качеством медицинской помощи.
Еще один тревожный факт из этого ряда — резкое увеличение смертности в больницах. В 1990-м в стационаре умерло 377,6 тысячи пациентов, а в 2014-м — уже более полумиллиона. Получается, количество больных, которых сегодня принимают в стационар, на 2,6 млн меньше, чем четверть века назад, а в больничный морг отправляют больше...
Парадокс? Или закономерность, результат неоправданных реформ и оптимизаций в отечественном здравоохранении?