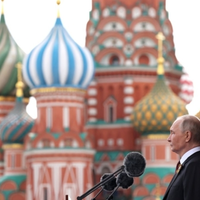Как мы помним со школы, поэт задавал риторический вопрос безымянному участнику Бородинской битвы. А много лет спустя на этом славном поле ваш корреспондент участвовал в битве за урожай. Памятники тут и сегодня растут как грибы после дождя — в отличие от пшеницы и картошки. Духовная пища заместила пищу материальную. Хотелось бы верить, что не даром. Но пока не получается.
В Бородино хорошо приезжать осенью. Но только не в первое воскресенье сентября, когда тут устраивают реконструкцию сражения и форменное столпотворение членовозов, праздных зевак и ряженых гусар. В ноябре туристов мало, и можно без суеты объехать знаменитые памятники и пройтись по музею, где представлены уникальные образцы оружия, мундиры и награды героев Бородинской битвы, изменившей историю России и Европы.
Начать можно с памятного знака Денису Давыдову. Справа от бронзового барельефа выбита надпись из дневника поэта и гусара: «Между тем мы подошли к Бородину. Эти поля, это село мне были более, нежели другим, знакомы!». В этой деревне, принадлежавшей предкам Давыдова, он сызмальства проводил каждое лето. При подготовке к празднованию 25-летия Бородинской битвы дворянская усадьба была выкуплена царской фамилией, на месте имения возвели императорский дворец. Двухэтажный особняк после Великой Отечественной дотла сгорел, а восстановлен был только недавно, к 200-летию сражения. Сегодня дворцовый комплекс включает небольшой музей, церковь и парк, где в хорошую погоду гуляют туристы.
Это северная сторона музея-заповедника «Бородинское поле», занимающего свыше 100 квадратных километров. Территория огромная, одних только памятников больше 300, так что дня не хватит все обойти или даже объехать на машине. Но мимо главного выставочного зала с экспозицией «Славься ввек, Бородино!» точно никто не проходит.
На площади перед входом на постаментах десятки больших и малых орудий со всей Европы — французских, итальянских, австрийских, голландских, саксонских: По вензелям на стволах можно изучать географию всей Европы. Как писали тогда в газетах, в Российскую империю вторглась великая армия «двунадесяти языков»...
Возле пушек можно бродить и фотографироваться, а вход в музей стоит 200 рублей. Мы берем билеты и, переступив порог, отправляемся в путешествие на машине времени. Среди экспонатов знамена пехотных полков, оригинальные мундиры французских драгун и кирасиров, русских егерей, артиллеристов и кавалергардов, кремневые ружья и пистолеты, тесаки и палаши. Рядом со скульптурой Михаила Кутузова карета, в которой фельдмаршал ранним утром приехал из штаба в Горки, чтобы быть ближе к эпицентру сражения. Посреди зала панорама местности с обозначением деревень и позициями русских и французских войск на разных этапах битвы, которая продолжалась с рассвета и до захода солнца.
«А вот так выглядит дубина народной войны в натуре, — экскурсовод показывает на три толстые жерди с оковами, похожие на цепы для обмолота зерна. — Ими вооружались мужики, и каждому дали сочное название — «охряпник», «ошарашник» и «окачурник». Ну что ж, если такие дубины имел в виду Лев Толстой, то французским обозникам при встрече с мужиками точно не поздоровилось.
Сражению 1812 года обязан своим появлением Спасо-Бородинский монастырь, настоящая жемчужина музея-заповедника. Начиналась его история с усыпальницы генерала Александра Тучкова, сраженного картечью при обороне Семеновских флешей. Первый храм рядом с земляными валами заложила вдова Маргарита Тучкова на личные средства и пожертвования Александра I. При строительстве за образец был взят античный мавзолей. Спустя годы вокруг образовался женский монастырь, где вдова генерала стала настоятельницей. Главный Владимирский собор монастыря для посетителей всегда открыт, а по особой просьбе монахини разрешают войти в усыпальницу или подняться на колокольню, откуда все поле как на ладони.
Через дорогу от музея курган, где стояла батарея корпуса генерала Николая Раевского. Во время сражения высота несколько раз переходила из рук в руки, но опрокинуть оборону русских противнику так и не удалось. Конное сражение на подступах к батарее западные историки назовут «могилой французской кавалерии». В 1839 году на этом кургане был с почестями захоронен генерал Петр Багратион и поставлен главный монумент −30-метровая чугунная колонна с золоченым крестом. В 1930-е памятник был снесен как «не представляющий художественной ценности», а спустя еще полвека воссоздан по счастливо сохранившимся чертежам. Ничто не меняется в нашей российской истории: сегодня — хулим и разрушаем, завтра — славим и восстанавливаем, послезавтра — опять выводим бульдозеры...
Правда, с памятниками это получается лучше, чем с реальной жизнью. В бытность студентом я на этом самом поле участвовал в битве за урожай, поскольку местный совхоз был подшефным для факультета журналистики МГУ. Целый месяц мы ходили с ведрами за копалками и собирали картошку на полях, которым, как тогда казалось, не будет конца. Жили в пионерском лагере на высоком берегу речки Колочь, сами на кухне по очереди готовили еду из продуктов, которые получали на совхозном складе.
Спросите, что осталось от сельскохозяйственного предприятия? Ответ простой: ни-че-го! Из бывших хозяйственных построек я обнаружил только развалины фермы. Стояла на полпути от пережившей Наполеона бородинской церкви до памятника Нежинскому драгунскому полку. Возможно, ферма не вписывалась в батальный ландшафт, но ведь никому особенно не мешала. А главное, коровы давали молоко, бидон которого нам исправно привозили по утрам.
Давно уже тут нет ни коров, ни картофельных полей. Из живности остались только лошади. Предприимчивые люди открыли конно-туристическую базу, предлагающую всем желающим прокатиться верхом. Можно за отдельную плату заказать фотосессию, примерив мундир бравого драгуна или даже кавалергарда. Приятно, конечно, но одним катанием сыт не будешь. В последние месяцы эту нехитрую истину вдруг со всей очевидностью осознали большие чиновники, которые нам с вами регулярно рассказывают про успехи импортозамещения и о победах в борьбе за продовольственную безопасность. Сначала сливочное масло подскочило в цене, и пришлось его срочно покупать в Турции и Арабских Эмиратах. А теперь в правительстве объявили о планах закупить в дружественных странах картошку. Это в ноябре, когда едва успели убрать свой урожай! Неужто все уже успели съесть?
А бывший пионерский лагерь, в отличие от ферм и картофельных полей, относительно благополучно дожил до нашего времени. Часть построек обветшала, но некоторые отреставрированы и готовы принять гостей. Плакат у ворот свидетельствует, что теперь тут проходят историко-патриотические сборы. Не круглый год, а по большим праздникам, которых в нашем календаре всегда хватает. Смущает только знакомый памятник, встречающий меня при входе на территорию. Ильич сидит на завалинке и с мудрым отеческим прищуром смотрит на младое поколение. Он явно что-то знал про нас.