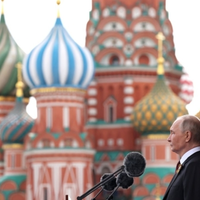5 марта в нашей стране традиционно поминают... Да никого не поминают — официально. Даже сейчас, в 70-ю годовщину события: тишина.
Вы думаете, я о Сталине? Нет, этот товарищ (вождь и учитель/ величайший преступник/ эффективный менеджер — предоставляю читателю продолжить на свой вкус) сейчас интересует меня лишь постольку, поскольку ровно в один день с ним скончался великий русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев.
Мало того, что эта трагическая потеря лишила нас не появившихся на свет замечательных симфоний, опер, балетов, кинолент (ведь «Александр Невский» и «Иван Грозный» — это тоже Прокофьев), но каждый год мы толком не можем справить день памяти уникального музыканта. Поскольку он попадает в тень сталинского призрака, а тот, похоже, до сих пор ввергает общество в такой сакральный ужас, что оно предпочитает не ворошить прошлое: все равно дискуссии никого не переубедят, только добавят раздрая. Вот так «зритель номер один» даже сейчас продолжает давить искусство, хотя это и цветочки по сравнению с тем, как в буквальном смысле давили людей (помните судьбу Михоэлса?), а того же Прокофьева вместе с Шостаковичем, Хачатуряном, Свиридовым жестоко громили «за формализм» в 1948 году (кстати, тоже «юбилей», 75 лет назад).
В Москве мне удалось найти только одно событие, посвященное 70-летию кончины Сергея Сергеевича: в зале «Зарядье» исполнили его чудесную детскую сказку «Петя и волк». Маловато...
Стоп, но ведь ровно 5 марта Баварская государственная опера в Мюнхене показала премьеру постановки главного оперного творения композитора — «Войны и мира». Да-да, это тот самый театр, откуда год назад уволили Валерия Гергиева, Анну Нетребко и других российских артистов, «связанных с режимом». О теперешнем мюнхенском проекте у нас сообщили мимоходом — не глядя ведь ясно, что на гнилом Западе смысл монументального творения русского композитора-патриота исказят до неузнаваемости.
Я-таки включил на своем компьютере не запрещенный пока VPN и посмотрел трансляцию спектакля. Был радостно удивлен тем, как бережно режиссер Дмитрий Черняков обошелся с первой частью произведения — той, где «Мир». Какие они у него настоящие, живые — сомневающийся Андрей (молдавский баритон Андрей Жилиховский), порывистая Наташа (украинское сопрано Ольга Кульчинская), подленький Анатоль (узбекский тенор Бехзод Давронов), монументальная Ахросимова (литовское меццо Виолета Урмана)... И это — Черняков, в других оперных постановках которого герои мало похожи на привычных нам Онегина, Кармен, Снегурочку, Садко, отрабатывая скорее внутренние комплексы самого Дмитрия, чем то, что хотели выразить композиторы.
Вторая часть «Война» поставила все «на место». Вместо баталии 1812 года мы увидели «Военно-патриотическую игру «Бородинская битва»», где современные юнцы и девчонки, раскрасив щеки триколором, стадно радели за героических русских воинов, кривлялись в ролях французов (паясничанью Наполеона мог бы позавидовать и Гитлер, каким его представляли некогда артисты наших фронтовых театров), а в конце массово крестились в раже, какой не демонстрирует даже наше госначальство в храме Христа Спасителя.
Руководил всей шовинистической истерикой некто пузатый в галифе, подтяжках и бейсболке — отставной генерал? пахан? Если кто еще не догадался — это Кутузов, в финале самодовольно ложащийся на украшенное цветами ложе в Колонном зале Дома Союзов этаким трупом-памятником самому себе.
Колонный зал — это, конечно, лихо найдено. Державное место, где и победы справляли, и вождей хоронили, и тот самый разгром «композиторов-формалистов» учинили. Вот-де она перед вами, Россия — судите сами, чего в ней больше: величия, талантов или трупного пафоса.
Очевидно, что ожидать более сочувственного взгляда на русскую патриотическую тему из центра сегодняшней Европы трудно. И все равно считаю произошедшее событием большого значения. Потому что прозвучала опера Прокофьева. Потому что произведение Сергея Сергеевича стократно, тысячекратно сильнее любых его режиссерских переосмыслений, как «Евгений Онегин» Чайковского или «Кармен» Бизе сильнее их неврастенических трактовок иными сегодняшними постановщиками.
Здесь надо отдать дань музыкальному руководителю Баварской оперы Владимиру Юровскому. Как бы ни напирал Владимир Михайлович в предпремьерном интервью (его тоже показали) на «мифологизацию войны 1812 года» уже у Толстого, а тем более у Прокофьева, творившего в пору Великой Отечественной, да еще под сталинским приглядом — он, дирижер высокого класса, совсем недавно еще худрук Госоркестра имени Светланова, не мог не передать силу прокофьевской лирики, героики, трагизма. Хотя и купировал сцену в Филях со знаменитой арией Кутузова — «чтобы не усиливать милитаристские смыслы произведения», на деле же избавив нас от очередной порции сценического уродства. Представляете, если б эту изумительную мелодию запел обладатель гомерического живота, пусть и с великолепным басом солиста МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрия Ульянова?
Баварская «Война и мир» важна не только на немецком, но и на общемировом фоне, включая российский. Ладно — модный английский беллетрист Джулиан Барнс в своем попсовом романе о Шостаковиче «Шум времени» походя называет Прокофьева «заячьей душой» (вас бы, Джулиан, в 40-е годы, партитурную бумагу в руки — и напишите такую «Войну и мир», такие Пятую и Шестую симфонии, такую Седьмую сонату, чтобы до сих пор дух захватывало от мощи музыки — радостной, тревожной, скорбной). Но ведь уже и у нас в стране Прокофьева сплошь и рядом ставят на «низшую ступеньку» по сравнению с «истинным летописцем века» Шостаковичем!
Хотя истинными летописцами, просто очень разными, были они оба. Один, Шостакович, как никто услышал трагедию разрыва между личностью и властью, зато другой, Прокофьев, уловил то, что даже сверхчуткому Дмитрию Дмитриевичу не всегда давалось — чувство единой народной судьбы.
Разве сегодня, когда эта судьба проходит новое испытание, то и другое не драгоценно?