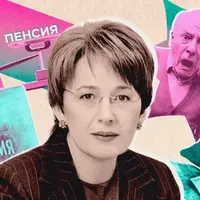В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко представили две балетные премьеры — «Сюиту в белом» Сержа Лифаря и «Вторую деталь» Уильяма Форсайта. Дополненные еще одним одноактным спектаклем «Маленькая смерть» Иржи Килиана из репертуара театра, они составили трехчастную программу, пунктирно очертившую развитие мирового балета в середине и конце ХХ века.
Отправной точкой послужил балет Лифаря, восстановленный для МАМТа французскими хореографами Клод Бесси и Лораном Илером. Это произведение 1943 года, сочиненное для совместного исполнения артистами Парижской и Цюрихской опер, возвращает нас в период, когда на лидирующую роль в балетном искусстве претендовал неоклассицизм. Лифарь обратился к незаслуженно мало исполняемой музыке балета Эдуара Лало «Намуна» и тем самым, можно сказать, спас ее. Хотя, возможно, не имел такого намерения, поскольку полагал, что танец — высшее из искусств и в музыке не очень нуждается. Но раз уж есть эффектно написанная партитура — отчего ей пропадать.
.jpg)
Георги Смилевски в балете «Сюита в белом». Фото Светланы Аввакум
Причиной несчастливой судьбы этой музыки, очевидно, были недостатки самого балета Люсьена Петипа (старшего брата великого Мариуса) на ходульный сюжет о соперничестве двух мужчин—благородного аристократа и авантюриста-пирата — за восточную невольницу по имени Намуна, где, пройдя через невероятную цепочку глуповатых злодейств и благодеяний, героиня совершала правильный выбор. Произведение, созданное для Парижской оперы в 1882 году, успеха не имело, сейчас от его хореографии ничего не осталось. Хотя колоритная музыка с восточным акцентом, который так любили французские композиторы того времени (Бизе, Сен-Санс, тот же Лало), продолжала будить фантазию хореографов (вплоть до нашего современника и соотечественника Алексея Ратманского).
Понять их можно. Уже увертюра в исполнении оркестра МАМТа под управлением Феликса Коробова погружает в волнующую атмосферу романтических образов. В принципе, подумалось, и спектакль не очень нужен. Но вот занавес открывается — и публика разражается аплодисментами, настолько красив являемый ей стоп-кадр в виде причудливого «орнамента» из фигур всех участников представления. В последующем мы видим не столько сюжетный спектакль, сколько фантазию на темы множества классических балетов XIX века. Возникают аллюзии на «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихота», «Корсара»... Сохранившиеся в действии следы сюжета придают ему дополнительную рельефность. Так, в хрупком образе, созданном Эрикой Микиртичевой в дуэте с Денисом Дмитриевым (часть «Адажио»), угадываются черты очаровательной пленницы Намуны, в вызывающем соло Оксаны Кардаш («Сигарета») — ее соперницы Елены. Очень красивы пространственные композиции, где на первом плане солисты, а на бортике задника, словно на приподнятой корме корабля, выстраивается кордебалет, будто парящий над темной гладью моря. Завершается все начальной декоративной рамкой...
В качестве второй части вечера нам представили уже известный столичной публике балет знаменитого чешского хореографа Иржи Килиана «Маленькая смерть», идущий в МАМТе с 2010 года, а впервые поставленный Нидерландским театром танца на Зальцбургском фестивале 1991-го. В новом контексте этот одновременно эротичный и целомудренный «шестерной дуэт» 12 танцовщиков/танцовщиц на музыку Моцарта предстал пусть очень далеким, но органичным продолжением неоклассической традиции с ее ясностью линий и благородством чувств.
Наконец третий балет программы — тоже привет из 1991 года, когда состоялась его мировая премьера силами Национального балета Канады в Торонто (а в России его впервые поставили в Пермском театре оперы и балета в 2012-м). Внешне — очень резкий контраст к первым двум спектаклям, явно связанным с классикой как балетной, так и музыкальной. Тут мы наблюдаем поставангардный танец, который американец Форсайт придумывает, говорят, с помощью сложных операций с компьютером. Необычно прежде всего общее строение танцевальной партитуры. Привычные к классическим структурам — соло, ансамбли, кордебалет — мы не найдем здесь ничего подобного. Точнее, все это есть — но соло, если возникают, то через секунду растворяются в ансамбле, тот, живя ничуть не дольше, уступает место диалогу пар или иной причудливой форме. Никто не стоит на месте, все движется, рисунок танца сверхтекуч, как гармония в атональной музыке.
.jpg)
Оксана Кардаш в балете «Вторая деталь». Фото Влады Мишиной
Хотя музыка Тома Виллемса (постоянного соавтора Форсайта) здесь как раз не атональна и совсем не зыбко-текуча, а по контрасту с танцем жестко, даже брутально ритмична. Парадокс, но что-то в этих электронных звучаниях чем дальше, тем больше напоминает Стравинского — самого великого ритмика ХХ века. Вот так совершенно неожиданно эта ассоциация возвращает нас к неоклассическим балетам первой половины столетия, с одного из которых началась нынешняя программа. Более того, когда в демонстративно бесполый танец-унисекс, где и танцовщики, и танцовщицы на равных исполняют одни и те же акробатические фигуры, вдруг вторгается ЖЕНЩИНА, да еще такая яркая, как Ксения Шевцова, да еще с совершенно иным, явно женским в своей экстатической пластике танцем — невозможно не вспомнить «Весну священную». После этого кажется даже несколько банальным конец, когда эта «избранница» — вы угадали, падает замертво и спектакль обрывается.
При чем здесь «вторая деталь», спросите вы? Если честно, затруднюсь ответить. Как затруднюсь толковать эстетические комментарии Форсайта насчет того, что «хореографический объект — это модель, допускающая переход из одного состояния в другое в любом воображаемом пространстве», и что он, этот объект, «скорее альтернативная область обитания смыслов, помогающая восприятию потенциальных импульсов и организации действия». Одно несомненно: весь спектакль смотрится как ожидание, что же из этого текучего и стремительно переменчивого потока возможностей выкристаллизуется. Выкристаллизовывается гибель героини. Как поется в опере, «что верно — смерть одна». В мире, где человеческой личности трудно привлечь к себе внимание на сколько-нибудь длительное время и взгляд общества скользит равнодушно по верхам, любая яркая претензия на индивидуальность обречена на поражение. По крайней мере так прочел автор этой заметки послание создателя спектакля, в конце которого, с роковым падением женщины, один из танцовщиков презрительно опрокидывает ногой стоявшую на авансцене табличку с коротким словом the — английским определенным артиклем, символизирующем конкретность, индивидуальность, неповторимость предмета. Ничего личного...